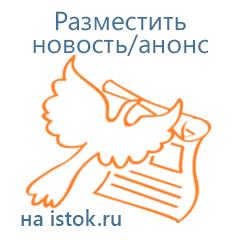В поисках себя
"Если есть надежда на обновление иудаизма, обновление самой его сущности, на раскрытие таящихся в нем сил, то это может произойти только здесь – на своей земле, при встрече человека-еврея с самим собой, со своим народом и питавшими его корнями".
Гершом Шолем
В поисках себя
Памяти моего одесского родственника Йосефа Йеѓуды Чёрного – путешественника, этнографа, историка горских евреев
"Чувство бессмертия – врожденное или приобретенное?" – думала Тайло, глядя в окно на сгущающуюся синеву предвечернего иерусалимского неба. Струящийся, пронизанный солнцем воздух остывал, становился плотней. "Может быть, мысль о бессмертии возникает у человека от страха небытия? Трудно смириться с тем, что ты – всего лишь капля дождя, пролитая на песок, или капля, подвластная воле океана. Положим, вернется моя душа в сущностный мир – к Богу, а через некоторое время в новом воплощении я стану мужчиной. И ничего от этого не изменится; так же, как и сейчас, буду смотреть в синее с розово-фиолетовыми перьями облаков темнеющее небо, и думать о своей несостоятельности. Утешусь сознанием того, что всё, зависящее от меня, сделала. Вот уже зажглись фонари вдоль поднимающегося в гору шоссе, скоро засветятся окна домов. Когда-то давно, будучи маленькой, я представляла за каждым светящимся окном таинственную жизнь счастливых людей. Сейчас знаю – счастья мало; что-то не додумано в мире, не исполнено. Не покидает сознание и своей в том вины – ума не хватило, сил".
В Иерусалимском районе Армон а-Нацив, что в переводе означает "Дворец наместника", много ворон и арабов. В сторону арабской деревни с торчащим минаретом Тайло старается не смотреть, так же, как старается не слушать карканье ворон. Арабы живут совсем рядом, вот они с детьми – в магазине, в автобусе, на почте. Хочется улыбнуться арабскому ребенку, погладить собаку, но тут же вспоминаешь о недавних терактах и отдергиваешь руку. Невольно думаешь – не вырастет ли из малыша террорист? Страшно потерять бдительность, это как на болоте: казалось бы, можно наступить на поросшую травой кочку, а наступишь – провалишься. Арабский студент из деревни, что через дорогу, всего лишь несколько дней назад устроил теракт в центре Иерусалима. Арабы праздновали убийство евреев – веселились, раздавали детям конфеты, а счастливые родители террориста-смертника принимали поздравления соседей.
Черные арабы, черные вороны. Вороны слетелись сюда две тысячи лет назад. Тогда на этом месте был долгий жестокий бой – евреи сражались с римлянами за свою веру, за духовную независимость. Погибло много народа, так много, что трупы некому было убирать: вот и слетелось сюда вороньё – тяжёлые чёрные птицы, вестники беды. Избавиться бы от их изобилия, и не замирала бы душа при виде их каменных клювов и зловещего карканья. И не видеть бы ненависть в глазах арабов: кажется, они только и ждут боевого клича, чтобы броситься на нас.
Представление о бессмертии души есть не только у евреев, но и у мусульман; убийцу-шахида ждёт табун девственниц в раю. А иудея ждёт в том сущностном мире созерцание совершенства и постижение божественной мудрости. За окном совсем стемнело, высветились звёзды. Три тысячи лет назад вглядывался в них с этого места в такую же, как сейчас, февральскую ночь пастух. Я спасаюсь от непогоды электрокамином, а пастух забирался в гущу сбившихся на ночлег овец – грелся их теплом и смотрел на небо. Тоже, наверное, думал о бесконечности мироздания и бессмертии души. Затухающий костёр не мог рассеять черноту ночи, и одинокому среди холмов скотоводу только и оставалось вглядываться в далекое мерцание звезд. Кто знает, не переселилась ли душа того человека в меня, чтобы спустя тысячелетия додумывать его мысли, так же, как и он, силиться найти связь происходящих событий, необходимость справедливости в этом, а не в другом мире… Скоро полночь, гаснет одно окно за другим, светится всего лишь цепочка огней вдоль шоссе. Возможно ли постичь всё происходящее, если ум человека – не ум Бога?"
Утро Творения для Тайло началось с огромного красного солнца, оно было теплое и не слепило глаза. Всё вокруг казалось живым: вздыхала трава, шептались листья, плакал старый пень и кто-то притаился в тёмном углу сарая. Всякий раз после сна, едва открыв глаза, девочка бежала смотреть на пёстрые фасолины, что лежали между мокрыми тряпками в большом медном тазу. Мама сказала – из них должны проклюнуться белые ростки. Вот и у рыжей однорогой коровы появился белый с черными пятнами теленочек. Наконец Тайло оповестила маму радостным криком: "Смотри! Вот! И вот тоже! Сколько беленьких точек!" Фасолины все разные: большие, поменьше, круглые, продолговатые, и крапинки на них разные. Фасоль высадили на грядки, и девочка стала ждать, когда исполнится мамино обещание, и вылезут из земли зелёные листочки. Заглядывала она и к телёночку – как он там без неё? Корова неспешно облизывает своего сыночка, значит, любит. Спустя несколько дней корову выгнали в стадо, а телёнок остался один – стоит во дворе на неокрепших ножках, оглядывается вокруг и жалобно мекает. "Может, он тоже человек, – думала Тайло, – только говорить не умеет".
После жарких, очень жарких дней облака на небе стали сгущаться, и никто больше не прятался от жгучего солнца. Наоборот, искали его тепла. Засохли стебли фасоли, и висящие на них стручки стали цвета песка, как и истончившиеся сухие листики. Стручки эти лущили в подолы зашедшие из соседних домов женщины, такие же, как мама, – немолодые, редко смеющиеся, во всегдашних черных одеждах. Горестных вздохов женщин девочка не понимает, ведь ярко раскрашенная осень горного селения со сладкими плодами обещает одни радости.
Поздней осенью краски поблекли, пожухла трава. Резкий, холодный ветер срывает с веток последние потемневшие от дождей листья. Кизиловый куст, ещё недавно красный, стоит голый, озябший. Печка топится теперь утром и вечером, но дома всё равно холодно. Потом и вовсе наступили холода. Тайло, укутанная в шали, сидит дома, вглядывается в белые узоры на замёрзшем окне и ждёт чего-то очень хорошего, что непременно должно случиться. Например, она будет летать не только ночью во сне, но и днем поднимется над домами, огородами, а потом ещё выше. Когда, наконец, мама выпустила Тайло из дома, девочка увидела изменившийся мир – он стал белым. Она с чувством первооткрывателя оглядывает наметенные сугробы снега, поражаясь их сияющей белизне, и тут же бросается к теленочку – не замерз ли. Но корова стоит одна и понуро жуёт свою жвачку. Куда же её сыночек делся? Уйти не мог. "Продали, – сказала мама, – кормить нечем, вот и продали".
Снова была весна, лето, осень. Теперь Тайло знала: разноцветную, как камушки, фасоль выращивают для лобио, где одна фасолина не отличается от другой – все одного цвета. А из бычков делают мясо, которое кладут в хинкали. Долго не покидало ощущение ужаса – ведь они с мамой едят кого-то живого. Хинкали можно сделать и с луком. Пусть лучше с луком, только бы её чёрно-белый телёночек был жив и тыкался ей в ладошку своей слюнявой мордочкой. Заметила девочка и то, что гора, откуда небо можно достать рукой, меняет цвета. Утром – розовая, в сумерках – синяя, а вечером – чёрная. И ещё услышала, что за длинной, длинной из огромных камней стеной вовсе не конец земли. Оказывается, и за ней живут люди, и там тоже растет виноград. Мир расширялся в пространстве и времени.
В семь лет у Тайло, кроме привычной тропинки к магазину, возле которого нужно простаивать часами в ожидании повозки с хлебом, прибавилась ещё одна дорога – в школу. По этой каменистой тропе – вниз к морю, она уже не раз ходила с мамой на большой базар. Теперь она знала: евреи живут наверху, ниже по склону горы – кабардинцы, а дальше – у самого моря – русские. И ещё из маминых рассказов следовало: евреи не всегда жили в Дербенте. "Они, то есть мы, хоть и пришли сюда много-много лет назад, всё равно считаемся пришлыми. Пришлые – значит, чужие".
Первого сентября на школьном дворе дети кабардинцев, черкесов, лезгин, русских, евреев смешались в общем водовороте. Из всех первоклассников выделялась ярко-рыжая девочка, её на городской манер короткое платье, гордо вскинутая голова означали – к такой не подступишься. Красавица смотрелась высоким огненно-красным гладиолусом среди полевых цветов. Самых маленьких, то есть вновь пришедших, выстроили, долго говорили им всякие хорошие слова, а Тайло всё смотрела на необычно праздничную девочку. И случилось невероятное: когда детей ввели в класс и учительница спросила, кто с кем хочет сидеть за одной партой, яркокрылая бабочка, словно загипнотизированная взглядом очарованной ею девочки, подошла и села рядом с ней. Учительница, похожая на маму усталым лицом и большими натруженными руками, не могла отвлечь внимания Тайло от случайно залетевшей бабочки, которую звали Софико. Не встрепенулась бы, не улетела к кому-нибудь на другую парту.
Из школы Тайло направилась за Софико, не заметив, что шла в другую сторону от дома. Оглянулась, когда оказалась у новой изгороди, за которой высился красивый дом с большим резным балконом.
– Мы здесь недавно живём, – заметила Софико, размахивая портфелем. – Папа теперь работает здесь, а раньше мы в Махачкале жили.
– А что делает твой папа?
– Он главный на железной дороге. Инженер называется.
Вздыбленные ветром огненные кудри рядом стоящей девочки, первый раз услышанное слово "инженер", красивый балкон большого дома рождали представление о нездешней, таинственной жизни его обитателей.
– Пойдём ко мне, – великодушно пригласила хозяйка.
– Потом, в другой раз… – переполненная чувствами Тайло не могла сейчас вместить новых впечатлений.
– Ладно, до завтра, – махнула рукой Софико и скрылась за забором.
Тайло стояла растерянная – то ли от внезапного исчезновения Софико, то ли от незнания обратной дороги. Всегда в незнакомом месте терялась; не помнила, с какой стороны пришла и куда нужно идти. "Кажется, сюда", – решила она, оглядываясь по сторонам: в подобных ситуациях ориентировалась с точностью до наоборот. "Нет, не было этого засеянного камнями пустыря", – вспоминала путешественница, но продолжала идти вперед. Сентябрьское солнце утром такое доброе, ласковое, сейчас, в полдень, одинаково нещадно к сухим колючкам, камням и потерявшемуся ребенку. "Нет, не так, нам нужно вернуться обратно к забору Софико и идти в другую сторону", – Тайло часто говорила о себе во множественном числе, будто кто-то ещё был рядом. Чувство присутствия другого не покидало её с тех пор, как помнила себя; он – незримый – оставался с ней, когда мама уходила на работу. Он же приказал зимой разжать рот и проглотить горькое лекарство, а ей, лежащей тогда в постели, только и хотелось, чтобы её не трогали, не мешали уплыть в пульсирующий огненный шар, раствориться в нем и ничего не чувствовать.
Увидев двухэтажное здание школы, девочка обрадовалась – сейчас она дорогу знала: нужно всё время идти вверх, и будет наша улица, дом. Только дом свой показался на этот раз похожим на норку – маленький, врос в землю, и улочка узкая, грязная. Раньше этого не замечала. Стоя, будто торопила время, Тайло съела оставленный мамой чурек с молоком и стала ждать завтрашнего дня – завтра она снова окажется за одной партой с Софико.
"Софико рассказывала, что у неё целых три брата. И у меня есть брат Юсуф. В прошлом году, когда ему сравнялось восемнадцать лет, пришла сваха и так нахваливала невесту, что Юсуф даже присвистнул от радости. Невеста оказалась злой и страшной, но об этом он узнал потом. Зато у неё много всякого добра: дом в три комнаты, четыре овечки, баран и полный двор кур. Живет сейчас Юсуф в Кизляре, ехать туда нужно на автобусе несколько часов. Несколько – это сколько? А от главного города Махачкалы ехать два часа. В Кизляре тоже есть виноградники, сады, и завод есть, где вино делают. Мама хотела, чтобы Юсуф жил рядом, но рядом невесты для него не нашлось, а к нам он не мог жену привести, некуда потому что. Папа тоже ездил к Юсуфу на свадьбу. Папа недалеко от нас с мамой живет, только у него другая жена – светловолосая, коротко стриженная. Она весёлая и ходит с непокрытой головой. Мама всё равно папу любит: когда он приходит к нам, спешит поставить на стол самое вкусное, что есть в доме. Папа новую жену с фронта привёз, я всё про это знаю. Юсуф рассказывал. Папа, когда воевал, нашёл её под завалами землянки, куда попала бомба, он её не хотел тащить – думал, убили. На всякий случай расстегнул шинель связистки, приложил ухо к груди – оказалась живой, дышит. Понёс её в санбат и наведывался туда, пока она не пришла в себя. Я слышала, что у нас, горских евреев, не берут русских женщин в жёны. «Пусть лучше так, – говорит мама, – пусть лучше с гойкой живёт, чем, если бы погиб на войне".
Из разговоров маминых подруг Тайло поняла, что появилась на свет случайно: «Отец поссорился со своей молодой женой и снова стал маминым мужем. Потом помирился и ушёл от нас. А через полгода у мамы родилась я. Я родилась случайно, не поссорься папа со своей второй женой, меня бы не было. Но ведь я есть. Разве может не быть того, кто есть? А если бы меня не было, с кем бы сейчас мама жила и кого бы она любила больше всех на свете? Папа любит своего нового сына, потому что он ему родней, конечно, родней, раз они вместе живут. Однажды его сыночек спрятался в кладовке с углём, так папа чуть с ума не сошёл, пока искал. Потом его драгоценный проголодался и сам вылез. Я тоже могу спрятаться, но меня папа не станет искать. А может, станет? Скоро придет с работы мама, и Софико завтра сядет рядом со мной. Интересно, почему она выбрала меня? Нет, это я выбрала её – одну из всех. Но как она узнала об этом?
Мы с мамой очень похожи: невысокого роста, смуглые, и брови у нас одинаково срастаются на переносице. Вообще-то мне всё равно, как часто приходит к нам папа, может совсем не приходить. Юсуф теперь женился, ему тоже всё равно. Только маму жалко. Даже если она снимет свой всегдашний платок, всё равно моложе не станет. Чёрные с проседью волосы затянуты в узел, а у той, другой, – светлые, волнистые. И смотрит та смело, ступает твердо, а мама сторонится, к стенке жмётся, как бы не помешать кому".
Если в незнакомом месте Тайло терялась, то дома, где всё привычно, можно не бояться. "Можно даже представить старое кладбище на горе, где похоронен папин папа, мой дедушка, значит. И дедушка дедушки тоже там, и все бабушки там. Они теперь разговаривают с Богом. Бог большой – во всё небо, Его не видно, потому что Он из воздуха. Бог знает, что будет с людьми через десять и двадцать лет. Через десять лет я стану красавицей!". Внезапная радость не помещалась в маленькой комнате, и девочка вышла во двор, где блестящая нитка паутины, грушевое дерево с созревшими плодами, пёстрая курица с цыплятами – всё виделось необыкновенно праздничным. "А закрою глаза – всё исчезнет, открою – и снова увижу освещенные предвечерним солнцем сиреневые вершины гор. Значит, всё вокруг живёт без меня, и Софико тоже. А мама без меня не может жить".
За большим столом в доме Софико сидели три её рыжих старших брата – красавцы джигиты, нарядная бабушка с дедушкой, отец – важный господин. Он вышел из своей комнаты, когда уже был подан обед. Звонкоголосая улыбающаяся мама Софико приносила одно блюдо за другим. Всё в этом доме было необычным: высокие потолки, огромные окна, полки с книгами, которые виднелись из приоткрытой двери комнаты отца. Тайло оглядывалась на золотистый ковер, что висел на стене. Не то ковёр, не то картина.
– Очень старая работа, – пояснил дедушка, заметив её интерес. – Выткано дерево – свеча, то есть семисвечник. Приходилось тебе видеть такой рисунок?
– У нас дома есть семисвечник, – едва слышно проговорила гостья.
– Ты что-нибудь знаешь о коврах с еврейскими знаками? – вежливо осведомился дедушка.
Тайло молчала, и дедушка продолжал:
– Среди кавказских ковров есть особенные – с библейским рисунком. Орнаменты, знаки передают символы нашего учения. Делают ковры лезгины. Во многих мусульманских селениях, где живут лезгины, когда-то жили евреи, там и сейчас есть те, кто зажигает в пятницу свечи...
– Дедушка, – нетерпеливо перебила Софико, – опять ты лекцию читаешь, думаешь, всем интересно про твои знаки.
Тайло хотела сказать, что ей интересно, но промолчала. Потом осмелилась и спросила:
– Где лучше жить – в Махачкале, откуда вы приехали, или здесь – в Дербенте?
– Здесь, – тут же отозвался дедушка, он ещё что-то хотел сказать, но Софико опередила:
– Здесь тебе лучше, потому что в синагогу ходить близко. А твой дедушка где живёт? – обратилась она к подружке.
– Мой не живёт, он умер. Я не видела его, он ещё до войны умер.
На день рождения Софико Тайло подарила ей единственную красивую у неё вещь – цветную открытку, иностранную; её папа с фронта привёз.
– Ух, ты! – дети окружили парту Тайло и Софико. – Где взяла такую? – они протягивали руки, чтобы дотронуться до диковинных цветов на глянце открытки.
– Это ты мне?! Насовсем?! – Софико не решалась присвоить невиданную красоту.
– Неужели отдашь? Не может быть! Или только показать принесла? Вот и мне бы такую… – слышалось со всех сторон. – А ещё у тебя есть?
– Больше нет, – удержала вздох Тайло.
– Значит, последнюю отдаёшь. И не жалко? – не унимались дети.
Тайло уже пережила расставание со своей единственной драгоценностью, решив, что для подруги – не жалко. "Она приходит к нам в гости и не замечает, какая у нас маленькая тесная комната. Говорит, что самые вкусные чуреки печёт моя мама. И это при том, что у них на обед чего только нет; одних тарелок и пиал не пересчитать. И мыть посуду можно не сразу – места много, а у нас одна чашка на столе, и уже некуда положить тетрадку. И всё равно она ходит к нам".
Двери всех комнат в доме Софико открыты, только отец её сидит за закрытой дверью, после обеда из-за стола встаёт первым и сразу же идёт к себе. "Наверное, очень интересные книги, раз он спешит к ним, их у него так много. А в нашем доме самое интересное – всегда запертый сундук. Там лежит мамино шёлковое платье, в котором она выходила замуж, папина черкеска с серебряными газырями и ковёр. Ковёр – моё приданое. Если вдруг случится пожар, сразу же нужно тащить сундук. У Софико все стены увешаны портретами и фотографиями родных, а у нас только одна фотография папиных родителей, моей бабушки и дедушки значит. Папа хотел унести эту фотографию к другой жене, но мама уговорила оставить детям – мне и Юсуфу, а то получается, мы совсем безродные. Ведь мама сирота, её родителей убили во время погрома. Из всей семьи мама одна осталась, жила у чужих людей – по хозяйству помогала.
Папа рассказывал, что у него был младший брат Акива, получается тоже родственник – мой дядя. Он с большим трудом выучился на врача. Жили бедно, пока учился, зарабатывал, где мог, за копейки нанимался к кабардинцам на самую грязную и тяжёлую работу. Однажды, когда не было никакой работы, поехал дядя Акива с товарищем в Баку, нанялись они там к богатому баю дом строить. Когда таскали наверх мешки с песком, бай всё подсыпал и подсыпал им в мешки песок. Смотрел, как они сгибаются под тяжестью, и радовался. "Мне, – говорил, – Аллах грехи простит, если жида буду мучить". Не успел дядя Акива жениться, погиб в первые же дни войны: попал в плен, и кто-то выдал, что еврей, – его расстреляли. Мама сказала, что души праведников живут на небе и могут попросить за тех, кто на земле. Вот бы дедушка с бабушкой и дядя Акива попросили, чтобы Гочи, который сидит на последней парте у окна, ни на кого из девочек не смотрел, только на меня.
Вообще-то папа меня любит, в прошлом году брал с собой в город. Мы шли – и все смотрели на нас, потому что у меня очень красивый папа. И я рядом с ним тоже немножко красивая и ростом выше. Дети на улицах оглядывались – не у всех же такой папа. Мы зашли в чайхану, там золотозубая женщина принесла целый поднос всего разного, передо мной поставила какой-то серый сыр, он липнул к зубам и пах грязными тряпками. "Невкусно?! – удивилась золотозубая. – А ты посоли. Опять невкусно? Тогда посыпь сахаром. Не привычная она к нашей еде", – сказала подавальщица папе. Потом мы гуляли по городу, и папа зашёл со мной в магазин, где продавали разные туфли. Выбрал мне самые красивые – с пуговкой, блестящие, я давно такие хотела. У меня ни разу не было кожаных туфель. Они мне жали в большом пальце, но продавец сказал: в самый раз, и я не посмела возразить. Ещё в тот день папа купил мне новую куклу – с головой, которая поворачивается в разные стороны. Туфли пришлось продать Зульфе – соседской девочке. Маме их было жальче, чем мне, но ведь у меня нога через год вырастет ещё больше, и тогда они совсем станут малы. А с новой куклой я не играю, а то обидится моя всегдашняя, которую мне мама сшила из тряпок".
В первых классах Тайло была счастлива дружбой с Софико, а в четвертом стала оглядываться на последнюю парту. Там сидит светловолосый Гочи, таких среди местных черноголовых мало. Молчаливый, вдумчивый мальчик не обращает внимания ни на смуглую медлительную Тайло, ни на бойкую ярко-рыжую Софико. Девочки сидят за одной партой и оглядываются на одного мальчика. А тот будто не замечает вмиг краснеющую Тайло и не упускающую случая оказаться рядом красавицу Софико. А может, и вправду не замечает.
К девятому классу Софико надоело маяться безответной любовью, и она согласилась прокатиться на мотоцикле с долговязым Симоном из соседнего класса. Девчонки в школе шепотом передавали друг другу страшную тайну, будто видели их вместе вечером одних, недалеко от виноградников. Жутко и удивительно было поверить в такое – ведь здесь девочку после тринадцати лет не выпускают вечером одну из дома.
На уроках истории Гочи не столько отвечает, сколько рассуждает по поводу заданного вопроса. Часто не соглашается с историчкой, требующей внимания стуком указки по столу. Доказывает, что гибель первобытного коммунизма случилась не потому, что люди усовершенствовали орудия труда и стали получать пищи больше, чем нужно было для выживания, а потому, что они нарушили принцип справедливости при распределении продуктов питания. Вот и войны случаются от соблазна сильного отобрать у слабого. "Да, нужно быть сильным, – говорит Гочи, – но не для того, чтобы отбирать, а чтобы защищаться. И принцип эволюции…" Строгая историчка прерывает умника на полуслове и спешит отправить его на место. Мало ли до чего договорится этот сторонящийся всех нелюдим; с него станется уличать в несправедливости и социализм. Вот и в вопросе роли личности в истории у них нет согласия. Учительница подчёркивает значимость народных масс, а Гочи – личность вождя. "Гитлер, например, – говорит он, – злодей, и провоцировал в людях злое начало, а справедливый правитель умножает добро".
Тайло соглашалась со своим избранником, хоть и не всегда могла уследить за его рассуждениями. Сожалела, что не такая умная, как он, и слов у неё не хватает, чтобы поддержать доводы Гочи. Однако тот всё равно чувствовал молчаливое согласие единомышленницы, и когда настаивал на своей правоте, оглядывался на неё, словно искал поддержки. Вот и теорию эволюции Дарвина о происхождении человека из обезьяны считал неправильной. Об этом говорил его дедушка. Однажды, встретив Тайло по дороге в школу, Гочи рассказал ей о своём старом дедушке Адаме, вернее, прадедушке, который до революции учился в хедере – еврейской школе для мальчиков. От него Гочи узнал, что Бог сотворил человека, потому мы и обращаемся к Творцу, а не к якобы далёкому предку – обезьяне.
Общие мысли рождали желание быть всегда рядом, служить тому, который так много знает. "Наверное, поэтому дети и вся домашняя работа лежат у нас на женщине, она же заботится, чтобы запаса еды хватило на завтра, а награда ей – умные речи мужа. Позвал бы Гочи, и я пошла бы за ним, хоть куда, не раздумывая. У нас в Дербенте, если молодые женятся против воли родителей, они убегают из дома. Только бы позвал. Потом можно вернуться или жить в другом городе. Мама ко мне приедет, где бы я ни жила. Не будь я неуклюжим медвежонком, а стройной и белолицей, может, и позвал бы. Говорят, у меня глаза красивые, но кто станет заглядывать в глаза, если ноги короткие. А могла бы родиться похожей на отца – высокой, легконогой. Всё дело случая. И родилась я случайно, не поссорься отец с новой женой, меня бы не было. И познакомилась мама с отцом тоже случайно. Мама в шестнадцать лет первый раз выбралась из далёкого села в город, приехала на свадьбу какого-то родственника. "Кто такая?" – спросил отец, увидев незнакомую скромно одетую девушку. На другой день послал сватов к Ноами-сироте, опущенные глаза которой напоминали ему тихие озёра».
"Только в математике нет случайностей", – думала Тайло, слушая объяснение одноногого старого учителя Григория Николаевича. О нём ходили разные слухи, будто, будучи царским офицером, он воевал в Белой армии. Потом разочаровался в белых, к которым пристал из-за дворянского происхождения. Разочаровался и в идее всеобщего братства и равенства красных. Колебания кончились обращением к науке. Григорий Николаевич знает разные языки, читал в подлиннике древнегреческих философов, они же математики, астрономы. На уроках рассказывает о Платоне, уводящем в сферу идеального бытия; об Аристотеле, рассуждавшем о силе разума, значимости интеллекта. С Пифагором Григорий Николаевич разделяет принцип математики, согласно которому число является отражением строения мира – его порядка, гармонии. В тридцать третьем году любителя учёности арестовали по причине чужеродности пролетариату. В тридцать пятом выпустили, в тридцать седьмом снова арестовали, а в сорок первом отправили в штрафной батальон. Там бы и погиб, не вынеси его с поля боя такой же штрафник. Этот двадцатилетний мальчик взвалил на себя истекающего кровью наставника и пополз. Мальчик тот с первого дня встречи следовал за Григорием Николаевичем всюду, подобно юноше, который ходил за Сократом, дабы набраться от него мудрости. Из госпиталя приверженец разумной творческой жизни вышёл с обожженным лицом и деревяшкой вместо ноги. Ученика, своего спасителя, искал, но не нашёл: погиб мальчик, мало кто из штрафников остался в живых.
Интуиция не подвела приверженца предустановленной гармонии Вселенной: он предвидел, что после войны снова начнут сажать, и уехал подальше от столичного города. Вот так и оказался Григорий Николаевич в отгороженном горами, далёком от цивилизации Дербенте, где в глубине неба парит орёл, поклажу возят на осликах, а женщины в присутствии мужчин – тихие, бессловесные, но когда остаются одни, дерутся до остервенения. Старинный город на западном берегу Каспийского моря вобрал в себя культуру и обычаи разных народов – им когда-то владели персы, хазары, турки, монголы, соседние ханы; время простиралось вглубь веков.
"В математике все логично, закономерно и никаких случайностей, то же и в идеальном мире Платона, вот только знать бы переход от идеальных построений к действительности", – думала Тайло, стараясь не смотреть на обожжённую половину лица Григория Николаевича. Зато другая половина – высокий лоб, прямой нос и четко очерченный подбородок – напоминала благородные лица декабристов, портреты которых были в учебнике истории. Случайности страшили своей непредсказуемостью, сознанием того, что от тебя ничего не зависит. Именно поэтому Тайло из всех предметов предпочитала математику, где одно вытекало из другого. Она одна из всего класса старалась вникнуть в объяснения Григория Николаевича, больше похожие на лекции в институте, чем на уроки в школе, пыталась соотнести его рассуждения с реальной жизнью. Если числа определяют строение космоса, выстраивают и упорядочивают Вселенную, значит, они же организуют и жизнь человека. Старый учитель представлялся причастным к чародеям, открывающим главную тайну – закон справедливости, который должен стать таким же очевидным, как аксиомы геометрии.
"Встретить бы Гочи по дороге из школы и нарисовать ему прутиком на земле формулу истории развития общества и их общей судьбы. Тогда он не свернёт, как обычно, в свою сторону, а пойдёт рядом; небо станет выше и дорога шире. Гочи поведёт в яркий счастливый мир, где исполняются мечты". То была весна, и девушку не покидало ощущение лёгкости, восторга и очевидности чудес.
Где бы она ни была, что бы ни делала, – ждала встречи с тем, кто до самых краёв заполнил её жизнь, как вода заполняет кувшин и переливается через край. Особенно длинными казались воскресные дни, когда не видела Гочи, не слышала его голоса, а уж каникулы – просто испытание. По окончании девятого класса Тайло, как и в предыдущие летние месяцы, отправилась в Кизляр к брату. Там её ждали племянники. В семье, где есть дети, много работы: стирка, готовка, уборка. Даже играя с детьми, она ждала встречи с мальчиком, глаза которого светлели, когда он смотрел на неё; в тот момент ей казалось, будто слышит биение его сердца, а может, то был стук её сердца. Снова и снова Тайло вспоминала, как он оглядывался, когда в разговоре с историчкой искал безмолвной поддержки. На неё оглядывался, а не на Софико. Для Гочи важна не отметка, а стремление понять, что от чего происходит. Сколько ещё дней придётся отсчитать до первого сентября, пока наконец она не увидит его на последней парте. А может быть, они встретятся по дороге в школу, он заглянет ей в глаза и сразу поймёт, как она его ждала. На следующий день пришлёт сватов, нет, в тот же день вечером, чтобы не ждать ещё целую ночь.
– У тебя сестричка славная, проворная, – воркующим голосом говорила Юсуфу завёрнутая в цветные платки женщина средних лет. Она в который раз приходит в дом Юсуфа и оглядывает Тайло со всех сторон.
– Замуж хочешь? – спросила сваха, решив, что девочка без порока.
Тайло молчала.
– Пора, тебе уже шестнадцать лет. Я в твои годы ребенка качала. Чего молчишь? Юханан человек серьёзный, армию отслужил, и дело верное есть в его руках. Сапожник он, обувь шьёт, такую в магазине не купишь. Да ты не бойся, он красивый. Не пожалеешь.
Девушке захотелось взглянуть на красивого юношу, которого ей прочили в женихи, но она тут же одёрнула себя: «Я ведь Гочи люблю, а смотреть на другого – значит изменить тому, кого ждёшь».
– Хорошая семья, состоятельные люди, всё есть. Приглянулась ты им, – ворковала сваха. – Если не захочешь жить здесь, в Кизляре, Юханан дом в вашем с матерью дворе поставит. Знаю, нет у тебя приданого, он тебя и так возьмёт.
– Я учиться хочу… через год получу аттестат, – лепетала Тайло.
– Кому нужен твой аттестат?! Смотри, переучишься. Не отказывайся от своего счастья. Плохая примета упустить первого жениха. Подумай головой: вы с матерью совсем в плохом домишке живёте, а Юханан большой, в четыре комнаты поставит.
"Хорошо, когда дом большой и светлый, – соображала девушка на выданье, – только ведь это всего лишь дом, а с Гочи можно плыть в историю веков – в прошлое и будущее, в то, что было, и что ещё будет".
Прошли, наконец, бесконечно длинные летние каникулы. В конце августа Тайло уезжает домой и в нетерпении считает оставшиеся до первого сентября дни, часы.
С замиранием сердца входит в класс – парта Гочи пуста. Не пришёл он и на второй, и на третий урок. Спрашивать не решалась, боялась, дрогнет у неё голос и выдаст себя. И только когда выходили с Софико из школы, та как бы между прочим обмолвилась:
– Уехал Гочи. Насовсем уехал.
– Куда? – от неожиданности Тайло остановилась.
– Женился он…
– Как женился… – дыхание перехватило, голос пропал.
– Оказывается, отец сосватал его ещё до рождения, – вздохнула Софико. – Подружился на фронте с москвичом, и решили они, сидя под огнём в одном окопе: если выживут и вернутся домой, и будут у них дети, у одного мальчик, а у другого девочка, – их обязательно поженят. Гочи спорить не стал, а может, сам захотел жить в Москве. Ну, скажи, кто бы у нас в классе отказался от такой удачи? Теперь уж точно станет учиться в университете на историка. Повезло, что и говорить.
– Повезло, – согласилась помертвевшая Тайло.
Мир потух. Всё потеряло смысл: история веков, смена поколений, поиски математической формулы гармонии Вселенной. Появилось чувство обречённости. В памяти всплыл давно прочитанный рассказ о мытарствах бежавшего из тюрьмы заключённого. Вот он, несправедливо оболганный, долго прячется в лесу, наконец, выходит к реке и пытается переправиться на поваленном бурей дереве на другой берег. Казалось бы – ещё немного, и он спасён; всё преодолел – голод, холод, течение ледяной реки. Однако беда, неотвратимость рока, преследуют человека. В последнюю минуту, ещё шаг-другой, и он скрылся бы в лесу на противоположном берегу, но тюремщики заметили каторжника, стреляют, и он падает лицом в воду. Конец. Всему конец. Значит, все усилия ни к чему не ведут. Зачем же стараться? Сколько зря погубленных душ вмещается в бесконечности Вселенной! И нет никакого смысла в стремлении к недостижимому счастью.
Тайло не могла есть, спать, и незачем было утром вставать с постели. Жизнь представилась мутным морем без берегов, где нужно плыть непонятно куда и зачем. Пустая парта Гочи – как провал, откуда никогда не выбраться. Болело сердце, и не оставляло сознание беды, непоправимости случившегося. Вновь и вновь вспоминалась их случайная встреча последней весной по дороге в школу. Небо тогда в один миг затянуло тучами, блеснул зигзаг молнии, раздался гром, похожий на обвал в горах. Несколько тяжёлых холодных капель, и тут же ливень стеной. На пустыре только и можно было спрятаться, что под дощатый навес, где лежали тюки колхозной соломы. Туда же бежал и промокший Гочи. Они оказались рядом, загороженные плотной завесой дождя. Она не смела поднять глаза – будь её воля, ливень никогда бы не кончился, и они так бы и стояли друг против друга. И он бы рассказывал передающееся из поколения в поколение предание о том, что евреи жили на этой земле ещё до новой эры, о своём прадедушке Адаме, который знает про Палестину, израильских царей, про разрушение Иерусалима и переселении иудеев на Кавказ.
– Последнее переселение из Персии относится к седьмому веку, – рассказывал Гочи, – это было бегство от мусульман. Отказавшись признать Мухаммеда пророком, нам ничего не оставалось, как бежать сюда – в горы. В восьмом веке войска арабского халифа захватили и разграбили Дагестан. Восстание, в котором сражались и евреи, не удалось; некоторые из наших скрылись в горах, других увели в рабство, убили или заставили принять ислам.
Стоило Гочи замолчать, как Тайло просила:
– Дальше, рассказывай дальше.
Она с надеждой смотрела на опустившееся под тяжестью воды небо: пока есть эта стена дождя, он не уйдёт. Жизнь представлялась в те минуты наполненной до краёв чашей, когда страшно вздохнуть – вдруг прольётся.
– В мусульманском селении Угкюн, что недалеко от азербайджанского города Куба, когда-то жили евреи. Пришли войска ислама, окружили селение и дали три дня сроку – умереть или принять их веру. Говорят, там до сих пор хранятся наши священные книги, на которые молятся старики, но прочесть их не могут. И у мусульман Шюдуха тоже, говорят, сохранились древние книги, не зря же тамошние жители считают евреев Красной Слободы своими родственниками. И жители села Ахты сохранили воспоминания. Мой дедушка родился в этом селе, всё о нем знает: ахтинцев обратили в мусульман, примерно, двести лет назад, в их самом старом здании сейчас мечеть, а была синагога.
Гочи рассказывал, и Тайло казалось, будто он сам жил в те страшные времена, когда у бесправных евреев не было ни земли, ни скота, ни даже бедной сакли. За самую грязную и тяжелую работу платили столько, что едва хватало, чтобы не умереть с голоду. Ещё совсем недавно, пока в Дагестане не утвердилась советская власть, еврей должен был сойти с дороги, если навстречу шел мусульманин.
Дождь кончился, а Гочи всё говорил. "Это он из жалости ко мне, – думала девушка, – знает, как мне не хочется уходить отсюда". Небо очистилось, оставались только зацепившиеся за горы тучи.
– Спасибо тебе, так интересно рассказываешь, – едва слышно проговорила Тайло.
– Это тебе спасибо за то, что тебе интересно слушать. Нужно идти, к третьему уроку успеем.
– Успеем… – подавила тяжёлый вздох девушка.
С тех пор, как случилась та весенняя гроза, прошло целое лето, однако в памяти снова и снова оживали рассказы Гочи о землянках, в которых выжили поколения. Крышей служили обмазанные глиной ветки; окном – отверстие в крыше. На ночь отверстие закрывалось поленом. Пол земляной, хорошо, если на нём лежала дерюга вместо ковра. Представлялись скорченные, в не защищающем от холода тряпье, люди. Судьба поколений казалась судьбой отдельного человека, которому нужно преодолеть холод, голод, страх, унижение. О любви, наверное, не мечтали – выжить бы. "Вот и мне нужно пересилить беду, забыть Гочи, отодвинуть всё случившееся и сосредоточиться на уроках. Получу хороший аттестат зрелости, уеду в Москву, поступлю в университет. Мы будем встречаться, разговаривать".
Григорий Николаевич, увлеченный своими мыслями, забывал, что перед ним сидят всего лишь школьники, а не исследователи, ищущие в математических выкладках ключ к познанию мира и себя в нем. И только одной Тайло за словами старого учителя виделась некая формула всеобщей космической связи: ум, душа и судьба человека – тоже число. "Математика, – говорил бывший дворянин, – творение духа, мы априорно принимаем на веру некие аксиомы. Вот и понятие Бога – аксиома, не требующая доказательств. Согласно Аристотелю, интеллект активен и бессмертен, так же, как бессмертна пытливая мысль. И в этом смысле, казалось бы, непредвиденные случайные события на самом деле – цепь непознанных причин и следствий, то есть целесообразность".
"Может быть, и в моём появлении на свет не было случайности, – думала Тайло. – Понять бы связь всего происходящего. Человек приходит и уходит, а мысли его остаются. Сколько веков минуло со времени Аристотеля, а Григорий Николаевич всё возвращается к нему. Собрать бы мысли в узелок, сосредоточиться, и тогда придёт понимание".
Горестное оцепенение после известия о женитьбе Гочи перемежалось устремлённостью ума, надеждой на новую жизнь в Москве. Закончились занятия в школе, сдан последний экзамен на аттестат зрелости. Ещё предстоял выпускной бал. Идти на него Тайло не хотелось, не представляла, кто бы захотел танцевать с ней. Мальчики оглядывались на неё только, когда им нужно было списать контрольную или когда ждали подсказки у доски. После уроков девочки медлили собирать портфель – не окажется ли кто из ребят попутчиком. Тайло же спешила уйти: теперь, когда нет Гочи, не с кем ждать по дороге случайной или не случайной встречи. Софико уходит с поджидавшим её за дверью Симоном; теперь все знают – они жених и невеста.
– О чём вы разговариваете?
– Мы не разговариваем, мы целуемся, – рассмеялась Софико на вопрос подруги.
"Пожалуй, не пойду на выпускной вечер, что за радость стоять у стенки, – решила Тайло. – Но мама всю зиму вышивала мне белое штапельное платье; в каждом из восьми клиньев юбки букет голубых и синих васильков. Мама представляет, как я кружусь в вальсе, и развевается мой подол с цветами. Она же купила мне белые босоножки и светится от радости, когда я примеряю их с еще не дошитым платьем. Белый цвет полнит, но мама не замечает этого. Для людей, которые тебя любят, есть другая – неявная красота".
"Ну зачем, зачем я иду на этот бал?" – говорит себе Тайло. Чтобы не запачкать новые босоножки, она старательно выбирает на тропинке места, где меньше пыли. Однако в следующую минуту невольно поддаётся чувству ожидания праздника и ускоряет шаг.
Торжественная часть с речами, вручением аттестатов, поздравлениями и пожеланиями ясной, как солнечный день, жизни кончилась. Начались танцы под специально нанятый духовой оркестр. С первого же вальса мальчики выбрали девочек, с которыми переглядывались на уроках, и больше не отходили от них. На скамейках сидели учителя и смотрели на своих сразу ставших независимыми учеников. Кто бы знал, как Тайло хотелось танцевать, но её не приглашали; только и оставалось стоять у стенки и делать вид, будто ей тоже весело. И только один раз она оторвалась от стенки, это когда, глядя куда-то в сторону, подошёл Рудик. Его большая голова на тонкой цыплячьей шее, как всегда, была устремлена вперед, будто хотел бодаться. Во время танца он глупо улыбался и наступал на ноги. Потом подошёл Григорий Николаевич, галантно поклонился и развёл руками:
– Увы, не могу на деревянной ноге пригласить вас на вальс.
Девушке в эту минуту он показался молодым гусаром на царском балу. И обращается Григорий Николаевич в отличие от других учителей к ученикам на "вы", даже к маленьким.
– Скоро вы уедете в Москву, а я… я снова возьму пятиклассников и буду вести их до выпускных экзаменов. Хорошо бы снова попалась такая вдумчивая слушательница, как вы.
Тайло благодарно улыбнулась, представила детей, которые будут смеяться над чудаком, над его рассказами про Пифагора и про число – суть мироздания. Про то, что познание – основа добродетели и нравственной жизни. Невозможно человеку молчать, невольно проговоришься, о чем думаешь. Однажды обмолвился на уроке: "Меньшевики потерпели поражение потому, что не могли поступиться принципами справедливости и чести даже в малом".
– У вас будет все хорошо, – говорил старый учитель, – только не изменяйте себе, не идите на компромисс, не предавайте себя. Каждый должен реализовать свой талант, поверьте моему опыту, это самая достойная задача. Не часто встречаются такие пытливые ученики, как вы.
Григорий Николаевич что-то еще хотел сказать, но промолчал, всего лишь раскланялся и направился к выходу. Будто для того только и приходил на выпускной вечер, чтобы напутствовать свою теперь уже бывшую ученицу.
Девушка решила, что и для неё этот бал уже кончился, но идти домой поздно, не шагать же два километра до дому в кромешной тьме. Чтобы скоротать время, она отправилась в дальний угол зала помогать женщинам из родительского комитета делать бутерброды, расставлять на столах стаканы, бутылки с минеральной водой. Как только стало светать, пробралась среди танцующих к открытой на улицу двери. Там стояли мальчики, курили. Никто не окликнул, и Тайло поспешила домой – убегала от несостоявшегося веселья. "А чего, собственно, я ждала, – утешала себя девушка, – всё хорошее ещё случится, главная жизнь впереди".
В этот ранний час рассвета, когда все ещё спали, Тайло окликнула Сима – мать мальчиков, которые недавно погибли. Сима копалась в огороде и, заметив девушку, проговорила: "Какая ты красивая!". Сорвала и протянула через изгородь едва распустившуюся, с каплями утренней росы, красную розу.
Насчет своей красоты Тайло не обольщалась: дело в том, что Сима видела в ней невесту своего покойного старшего сына и относилась к ней с нежностью.
После того, как погиб и младший сын Симы, горе в покрасневших от слез глазах матери сменилось безумием. То была самая красивая и несчастная женщина в округе. Муж не вернулся с войны, и она осталась с двумя мальчиками-погодками: двух и трех лет. Пособия на детей не получала: пришла повестка, что её Захарий пропал без вести. Власти под этим разумели: попал в плен – сдался врагу – изменил родине. Почему-то исключалась смерть в бою. И женщина, меченная неустановленным позором мужа, зарабатывала, как могла; нанималась делать большую стирку, таскала дрова из лесу, обихаживала не поднимающихся с постели стариков. Так по найму попала она к немолодому не то генералу, не то полковнику. Не местный важный человек, он строил дачу недалеко от берега моря в самом красивом месте окрестностей Дербента: горы, сады, виноградники. Тут же и многовековая стена – древнее укрепление от набегов кочевников. Наверное, тот строящий дачу человек всё-таки был генералом: очень уж почтительно о нем говорили, и много солдат было в его распоряжении.
Пока генерал с солдатами разбирал на своём участке доски, кирпичи, ясноглазая Сима кашеварила в подвешенном над огнём чугуне. Со стороны она вовсе не казалась прислугой на чужом дворе: как-то вдруг распрямилась, помолодела. Люди говорили: так заразительно весело она не смеялась с начала войны. Всё чаще оставалась Сима ночевать в недостроенной даче генерала, всё реже приезжала к нему из города жена. "Это несправедливо, – думала тогда Тайло, жалея жену генерала. – Разве пожилая женщина сравнится с молодой; молодой не нужно никаких заслуг, чтобы оттеснить старую".
Подрастали Симины сыновья, и когда старшему – Гедалии – пришло время идти в армию, устроил его генерал на военный завод. Все тогда завидовали – повезло парню: кто бы не хотел вместо армии работать недалеко от дома. Гедалия был красив, как артист: высокий материнский лоб, зачёсанные назад вьющиеся волосы, зелёные в тёмных ресницах глаза, а пел – заслушаешься. Через полгода его не стало – убило на военном заводе током. Или резиновые перчатки забыл надеть, или пренебрёг ещё какой-то мерой безопасности. Мёртвый, он лежал красивый и вдохновенный, с едва заметной улыбкой. Будто исполнилась его мечта – спел в оперном театре арию Ленского, и теперь несут цветы к его ногам. Тайло плакала навзрыд, не замечая, что все оглядываются на неё, не слышала она и свою мать, которая просила потихоньку: "Перестань, мало ли что люди подумают". Тогда была зима, цветов не было. Вспомнив, что дома есть искусственные розы, девушка поспешила принести их и положить к накрытым простынёй ногам несостоявшегося певца. С тех пор Сима смотрела на девушку с нежностью, наверное, ей казалось, что та была влюблена в её сына. На самом деле Тайло поразил ужас, абсурд гибели совсем молодого талантливого человека.
Через год пришло время идти в армию другому Симиному сыну – Вильго. И его генерал устроил на тот же военный завод. И Вильго убило током: он, как и брат, попал под высокое напряжение. На этот раз Тайло не пошла на похороны – не смогла – не было сил справиться со случившимся. То была самое страшное горе, свидетелем которого она оказалась. Каким пустяком теперь представлялась несправедливость по отношению к старой жене генерала. Сима ходила с безумными глазами, ничего не замечая вокруг. Когда с ней заговаривали, отвечала невпопад или вдруг начинала смеяться. Генерала не узнавала, будто его и не было никогда. К ней в дом переселилась племянница с мужем и ребёнком: несчастная женщина не могла оставаться одна. Вот и сейчас Сима не спит, копается в огороде...
"Что я могу сказать ей, – думает Тайло, – чем ответить на страшную тоску во взгляде женщины. Ведь я напоминаю ей о сыне. Ярко-красная роза на высоком стебле, которую она протягивает мне, кричит о радости жизни, а в душе матери пустота, смерть. Бессильны люди помочь друг другу.
И мама сейчас не спит – ждёт меня. Нужно будет изобразить удовольствие от весело проведённого вечера".
Из-за горизонта выглянул огненный край солнца. Невдалеке пылит дорога. Это мальчик-пастух собирает по дворам овец и коз. Тайло вспомнилась маята, когда она, выгнав козу в стадо (корову они давно продали), оставалась дома одна. Мама в сезон созревания овощей пропадала на своём консервном заводе с утра до поздней ночи. Переделав нехитрые дела – накормила кур, подмела в доме, девочка слонялась по двору, не зная, чем заняться, куда себя деть. Соседская Зульфа, с которой они играли в мяч, ещё спала. И только с пятого класса; с тех пор, как Григорий Николаевич обозначил вектор ее неосознанных стремлений, маята, скука оставили её. Зульфа в пятнадцать лет вышла замуж и как-то незаметно превратилась из играющей в мячик девочки в кормящую маму. Теперь она судачит с семейными женщинами о свадьбах, кому чего и сколько дали в приданое, о величине золотых украшений, свидетельствующих о любви мужей.
"Не ждите чудес и нечаянной удачи, – говорил Григорий Николаевич, – если что и случается хорошего в жизни, то добиться этого можно только трудом". И Тайло представляла многовековой труд людей, которые жили когда-то на месте их узкой, с лепящимися друг к другу домиками, улицы. "Может быть, в том давнем еврейском поселении была бедная сакля, а до неё – землянка. И нескончаемая нищета. Мне, в отличие от когда-то живших здесь людей, не на что жаловаться, и я могу учиться. А если не поступлю в университет? Ничего не останется, как вернуться в Дербент и устроиться работать на ламповый или на консервный завод. Вот уж тогда меня точно никто замуж не возьмёт. Девушка, уехавшая из дому одна, неизвестно к кому, заведомо порочна. Ни одна женщина не позволит сыну привести её в дом.
Мама и отец даже слушать не хотят о моих планах. Случалось, и из наших краёв уезжали в Москву, но не на пустое место – жили у родственников, знакомых. Не ночевать же на вокзале в чужом городе. Отец предлагает учиться в Нальчике, на выходные ездить к брату. От его дома до Нальчика можно добраться автобусом. Дети Юсуфа меня любят, когда были маленькими, мамой называли. Жена брата до сих пор злится – ревнует. Однажды даже кричала, что я ведьма, приворожила её детей. Просто я играю с ними, разговариваю, как со взрослыми, и делаю их любимый морковный сок. Дети не отходят от меня. Но где учиться в Нальчике? Разве что в технологическом институте, чтобы потом стать специалистом по приготовлению консервов. Нет, хочу в Москву! Боязно ехать одной и невозможно не ехать. Ночью снилось: в засыпанном снегом Дербенте исчезли дороги, некуда идти – и, значит, не приходится выбирать. Страх, сомнения отступили, за дверью стоял человек, которому я нужна. У нас с ним будут дети, я их уже сейчас люблю больше всего на свете. Во сне всё решилось само собой".
На следующий день отец привёл жениха. Тайло украдкой поглядывала на большого плотного человека лет тридцати пяти, на его покоящиеся на коленях тяжёлые руки – руки мастерового. Явное внимание к гостю считалось неприличным; горская девушка в присутствии незнакомого мужчины не садится, молча стоит у стены, не поднимая глаз. Иногда ей позволено застенчиво улыбнуться. Что-то внутри встрепенулось и затихло – успокоилось: "Вот и хорошо – не нужно теперь ничего искать, куда-то стремиться. Я ведь ещё в детстве отступала от соблазна отправиться по неведомой дороге, поворачивала к берегу, когда тянуло доплыть до средины моря, и преодолевала искушение увидеть, кто живет на дне колодца".
Жених приехал из Самарканда. Он спешил.
– Свадьбу в моём доме играть будем, – говорил Шабтай, – а то у меня родни много, целый поезд придётся заказывать, если сюда ехать.
Тайло молчала.
– У нас хозяйство давно налажено, всё есть, всё, как полагается. Нуждаться не будешь. Маму твою с собой возьмём, с нами жить станет.
При виде доброго человека, стало покойно. Не нужно было на свой страх и риск решать: ехать или не ехать в Москву. Наступило умиротворение, словно и не было нетерпения голодного, которому, чтобы не умереть с голоду, нужно сейчас, в данную секунду решить уравнение с несколькими неизвестными.
– Расскажи мне про твою семью. Вообще-то я наслышан, но и от тебя хочется что-нибудь узнать, – проговорил гость.
– Маленькая у нас семья: я и мама, про папу вы знаете. Ещё был у нас дядя Акива… – Тайло вспомнила о младшем брате отца. Именно к нему чаще всего возвращались её мысли. – Он учился, единственный из нашего селения преодолел бедность, все напасти, и огромным трудом в чужом городе выучился на врача.
– А где он сейчас, твой дядя Акива? – спросил Шабтай. Об этом будущем родственнике он ничего не слышал.
– Он погиб на войне.
– Так что же ты мне про него рассказываешь? – недоумевал жених.
– Я… я тоже хочу учиться.
– Зачем?
– Дядя Акива хотел стать врачом, а я – математиком…
– Так уж ты выбери: или семью, или математику, – разозлился гость.
Тайло молчала, ей не хотелось терять жениха. И в то же время душа рвалась куда-то в неведомое, где обязательно встретится попутчик, подобный Гочи.
Не дождавшись ответа, Шабтай резко поднялся и решительно направился к двери.
Отвергнутая невеста осталась стоять, подавленная чувством потери. Она ещё могла вернуть жениха – броситься следом и уверить его в том, что навсегда расстанется с мечтой о математике. Но девушка словно прилипла к полу. Шабтай в тот же день уехал в Самарканд.
Чувство потери, сожаления сменилось надеждой. Вдруг и вправду Москва окажется городом чудес. "Вот только мама не находит себе места, чего только не придумает. Картины ей видятся – одна страшней другой. Мыслимо ли девочке ехать так далеко одной. Другое дело, если есть родня в чужом месте, или хоть кто-то из знакомых. И ещё мама не знает – поступлю ли я в университет, а если нет – вернусь обратно и окажусь ни здесь, ни там. Никто меня тогда здесь замуж не возьмёт – сочтут гулящей. И всё-таки, всё-таки – еду. Конечно, страшно ночевать на вокзале, но ведь в справочнике для поступающих написано, что иногородним предоставляется общежитие".
Тайло спешит сложить в чемодан свои тетрадки, учебники. Казалось, промедли она день-другой и опоздает – кто-то другой займёт единственное предназначенное ей место.
И вот, наконец, ранним утром они с мамой стоят на засыпанном подсолнечной шелухой перроне – ждут поезда. Вокруг толпятся женщины с узлами, корзинами, они едут в окрестные селения и сойдут на ближних станциях. Женщины неспешно судачат, привычным жестом забрасывают в рот семечки – так кочегар забрасывает уголь в зев топки. Мама молчит, подавленная страхом неизвестности, все свои опасения и наставления она уже повторила много раз. И всякий раз дочка уверяла её, что будет осторожной, чемодан станет держать при себе, а если придётся ночевать на вокзале, устроится поближе к милиционеру.
Стоящий на путях поезд тронулся и стал медленно приближаться. Женщины поспешно поднимаются со своих узлов, стряхивают с подолов каскады подсолнечной шелухи и в боевой готовности выстраиваются вдоль платформы – на тот случай, если вагоны придётся брать штурмом. Тайло обернулась на маму, горестно глядящую ей вслед, невесело усмехнулась их общей беспомощности и нырнула в водоворот отъезжающих. Вобрав в себя галдящую толпу, поезд дал сигнал отправления и, набирая скорость, пошёл вдоль берега моря. Чувство свободы, ликования от предстоящих перемен вскоре сменилось страхом неизвестности. Вспомнились тяжелые вздохи маминых подруг; они-то знали: не может горская девушка выломиться из своей судьбы. Намается в чужом месте и вернётся. Только что же потом с ней будет, разве что старый вдовец позарится. Страх перемен – залог выживания. Сколько веков евреев в Дагестане грабили, убивали, вот и боятся, жмутся друг к другу.
Высотное здание университета на обложке справочника для поступающих в вузы представилось миражом в непредсказуемом одиноком плавании. И не было дороги обратно.
Женщины, набившиеся в купе общего вагона, одна за другой вытаскивают из-под лавок свою поклажу и спешат пробраться в тамбур, поближе к выходу. Поезд на маленьких станциях не задерживается – нужно успеть сгрузить мешки, корзины. В купе остался всего лишь один старик, по виду которого трудно определить, кто он: может, обрусевший лезгин, мог быть и русским, затерявшимся в дагестанских горах, мог оказаться и евреем, давно оторвавшимся от своего клана. Ни одежда, ни глубокие морщины на обесцвеченном годами лице не свидетельствовали о занятиях этого человека. Может, виноградарь, а может, скотовод или бывший учитель. Поражал проницательный взгляд старика. Казалось – он про всё знает.
На одной из станций в купе ввалились двое подвыпивших парней. Ребята были русскими, из тех, которым море по колено – ничего не боялись; не было в них ни накопленного поколениями страха евреев, ни опасений кровной мести мусульман.
– Ишь ты, какая куколка меня здесь дожидается, – присвистнул тот, который вошёл первым, коренастый с большой квадратной головой без шеи.
– Поделимся, – хохотнул другой в тельняшке и тут же брякнул на стол бутылку водки.
– Папаша, выпей с нами, – пригласил первый, – потом мы тебя забросим на верхнюю полку, баиньки будешь.
– Дед, ты чё в окошко уставился, там темно. Шевелись давай! Тебе говорят, а то нам тут с девочкой покалякать охота.
Старик медленно повернул голову – лицо суровое, умное, лицо провидца.
– Ты чё, дед, или не понимаешь? Дело наше молодое!
Какая сила была в глазах старика! Парни попятились.
– Ладно, ладно, мы так, пошутили. Не хочешь – не надо, мы чё, неволим тебя, мы и в тамбуре разольём, – сгребая бутылку, сказал тот, что в тельняшке.
– Спасибо, – едва слышно проговорила Тайло, когда лихие парни ушли.
Старик промолчал.
Вернулись попутчики совсем уж навеселе, одним махом оказались на верхних полках, поворочались там раз-другой и засопели. Тайло не заметила, как тоже уснула, а когда открыла глаза, солнце уже выкатилось из-за горизонта. Старик, казалось, так и сидел стражем всю ночь, глядя в окно.
– Доброе утро, – проговорила девушка.
Старик едва заметно кивнул.
Заворочались на верхних полках попутчики. Словно отяжелевшие за ночь, они медленно, кряхтя, спустились, мрачно переглянулись и двинулись в тамбур. Потом, когда вчетвером пили принесённый проводницей чай и поднявшееся солнце слепило глаза, вчерашние молодцы не выглядели такими уж страшными, и лет им было меньше, чем казалось вечером.
На исходе вторых суток, едва стало светать, по вагону забегала проводница, извещая о скором прибытии в Москву. Поезд сбавлял ход, шёл всё медленней, наконец, причалил к платформе, вдоль которой висел огромный красный плакат, на нём было написано белыми буквами: "Добро пожаловать в столицу нашей Родины – Москву!" Тайло отнесла это приветствие на свой счёт и, полная надежд устремилась к выходу. Вспомнив, что не попрощалась с добрым стариком, стала оглядываться, но его нигде не было. "Куда же он мог так быстро уйти?" – подумала девушка и в нетерпении двинулась вперёд. Вынырнув из привокзальной толчеи, она оказалась на широкой многолюдной улице. Все, кого она, преодолев смущение, спрашивала, как добраться до университета, пожимали плечами и спешили дальше. Одна женщина остановилась, окинула понимающим взглядом наглухо застёгнутое с длинными рукавами платье провинциалки, её тяжёлые косы, и стала терпеливо объяснять, что есть два университета: старый и новый. Тайло растерялась, достала из сумки справочник для поступающих в вузы и показала тот, что был на обложке. "На Воробьёвых горах, – улыбнулась женщина, – пойдём, я тебе помогу спуститься в метро, а то устроишь со своим чемоданом свалку перед эскалатором".
Сбитая с толку водоворотом людей в метро, Тайло испугалась. Страх перешёл в панику. Через несколько шагов останавливала спешащих людей, спрашивала, правильно ли идёт, туда ли едет. Когда, наконец, на станции "Университет" выбралась на улицу и увидела шпиль высотного здания университета, июльское солнце, почти такое же жаркое, как в Дербенте, уже стояло над головой. Теперь нужно пристроиться поближе к какой-нибудь степенной женщине и перейти с ней широченную, в несколько потоков машин, дорогу. Дальше, держа под прицелом шпиль университета, Тайло двинулась вдоль высокой ограды, через чугунные переплетения которой были видны недавно высаженные деревца, кусты. Тяжёлый чемодан с учебниками мешал идти, а то бы бежала, летела вперёд. Кончилась чёрная чугунная ограда и открылась необъятная площадь со зданием, до верха которого пришлось бы долго считать этажи. Красный гранит огромных колонн, царская лестница из того же гранита – всё неправдоподобно большое, величественное – обитель великанов.
Провинциалка как-то сразу потерялась, обессилела, захотелось куда-нибудь присесть, перевести дух. Однако, не останавливаясь, миновала гранитные колонны и двинулась вверх по лестнице за щеголеватым мужчиной в светло-сером костюме – он-то знал, куда идти. Оказавшись перед вахтёром, отступилась: тот потребовал предъявить пропуск, а где его взять, Тайло не представляла. Растерявшись, только и могла пролепетать:
– Я… я приехала… хочу поступить в университет.
– Все хотят, – со знанием дела ответил вахтёр с выправкой отставного военного, – пропуск давай. Или может, ты в списках абитуриентов числишься?
– Я не знала…
– Понятное дело, что не знала, а то бы вся провинция сюда повалила. – Несгибаемый страж отвернулся и, словно не было рядом вконец потерявшейся девочки, стал насвистывать: "Широка страна моя родная…"
Сохранила бы Тайло присутствие духа, она бы выжала из этого истукана с могучим затылком ключевое слово "приёмная комиссия", куда ей и следовало обратиться. Волоча за собой чемодан, она снова оказалась на необъятной лестнице и, подавленная сознанием невозможности стать причастной избранным, стала медленно спускаться. Снова пересекла площадь и опустилась на скамью. Ещё и ещё раз посмотрела на увенчанное золотым шпилем здание университета, на блестевший полированный гранит высоких как маяки колонн, на тяжелые двери, над которыми огромные часы отсчитывали другое – непостижимое время. "Мне ли тягаться со столичными гениями", – вздохнула девушка, тяжело поднялась со скамьи и побрела искать педагогический институт. Там ведь тоже есть математический факультет.
Спустя два часа она стояла перед зданием старинного особняка: такие показывают в кинофильмах о князьях и графах. Невольно отождествила себя с приехавшими на бал барышнями прошлого века: распрямилась, подняла голову и ступила в барские хоромы, где жизнь представлялась торжественно красивой. Объявление приёмной комиссии висело тут же, у входа. Только и оставалось свернуть к лестнице, подняться на второй этаж и найти нужный номер комнаты. Там коротко стриженая блондинка с оголёнными по плечи руками разговаривала по телефону.
– Садись, – бросила она вошедшей, продолжая разговор.
Тайло огляделась и, не зная, куда поставить чемодан, осталась стоять.
– Вот тебе анкета, заполняй пока, – белокурая девушка протянула листок и кивнула на стол у стены.
Смуглая, с тёмными по пояс косами, Тайло присела рядом с голубоглазой румяной девочкой и узкоплечим очкариком – те тоже заполняли анкеты. Вскоре они один за другим поднялись. Секретарша, мельком взглянув на их листки, согласно кивнула и велела посмотреть на стене расписание вступительных экзаменов.
– А ты что застряла? Давай помогу. Так, имя, фамилия: Тайло Хизгиловна Давыдова, – это ж надо, каких только имён не придумают. Год рождения – 1947. Родилась в Дербенте. Это где?
– В Дагестане.
– Национальность – татка. Первый раз слышу. Кто такие?
– Вообще-то я еврейка, но в паспорте нам пишут "таты". Это неправильно, некоторых мусульман тоже записывают татами.
– Ладно, раз в паспорте "татка", так и оставим. И где только не живут евреи, а эскимосами на Чукотке бывают?
– На Чукотке вряд ли.
– Это почему?
– Мы из тёплых краёв: Палестины, Ирана.
– Откуда ты знаешь?
– Мальчик в нашем классе учился, историком хотел стать, он знает, – проговорила Тайло и тут же спросила: – На математический факультет большой конкурс?
– Небольшой, но много медалистов, их без экзаменов возьмут.
– Медалисты могли бы и в университет поступить.
– И да, и нет. Периферийному абитуриенту лучше туда не соваться; собеседование надо проходить на общее развитие. Слыхала о таком? В университете профессорские дети учатся. А ты, судя по чемодану, прямо с вокзала? И остановиться тебе негде. Всё понятно. Выпишу направление в общежитие. Я тоже учусь здесь, на географическом факультете. Летом подрабатываю – секретарём в приёмной комиссии сижу.
– Это вам, – Тайло достала из чемодана и протянула стриженой под ёжика секретарше желтую длинную дыню, аромат которой тут же заполнил комнату.
– А мне за что?
– За доброту, а то бы пришлось ночевать на вокзале. Мама сказала: отдашь тому, кто приютит тебя.
– Спасибо, прямо райский аромат у твоей дагестанской дыни. В Москве такую не купишь.
– Как вас звать? – смущаясь, спросила Тайло.
– Жозефина. Смешное имя. Родительница моя французские романы запоем читала, вот и назвала именем какой-то героини. Я напишу адрес общежития и нарисую, как идти от метро "Студенческая". Вообще-то там живут иностранцы, но сейчас есть места.
Теперь девушку с гор меньше смущало многолюдье Москвы, и она уже более уверенно ступила на эскалатор метро, и чемодан без дыни стал легче.
– Ну-ну, – повторял с невыразительным, словно неживым, лицом вахтёр общежития, вертя в руках направление. – Какой такой начальник сыскался, что разрешил тебе жить здесь.
– В приёмной комиссии дали…
– Мы таких, как ты иногородних, размещаем у метро "Электрозаводская". Слыхала о таком? Нет? Ладно, летом иностранцы разъехались, потом разберёмся. А пока вот тебе ключ – второй этаж, двадцать третий номер.
Заполненная нежарким предвечерним солнцем большая комната с окном во всю стену показалась царскими хоромами. Две просторные кровати, круглый стол, шкаф, вместительные тумбочки. В одну из них Тайло начала выкладывать из чемодана учебники, тетрадки. "Ну вот и всё, считай, устроилась. Пока устроилась. А там, что Бог даст. Сейчас нужно найти почту – маме телеграмму дать. И вперёд – готовиться к первому, самому страшному экзамену: сочинению. Хоть я и ходила в русскую школу, а писать без ошибок так и не научилась. Знать бы, какая тема будет на экзаменах, можно было бы зазубрить правописание нужных слов. А если не поступлю…"
Неизвестность страшит, но ещё больше страшила Тайло нудная работа на конвейере консервного завода, куда придётся идти в случае провала. Невольно думалось и о том, что в Москве она сможет видеть Гочи. Софико дала его адрес. "Постучу в дверь, откроет жена, и сразу догадается. Если вытянуться на постели и закрыть глаза, можно представить, что ничего нет: ни тетрадок, которые нужно листать снова и снова, и нет у Гочи жены, и нет боли и мучительных сомнений – ехать или не ехать к нему. Может быть, ему сейчас тоже хочется закрыть глаза и ни о чём не думать".
После первого экзамена на следующий же день, не в силах вынести неизвестность, абитуриентка, не зная, что делать – готовиться ли к следующему экзамену, или, если срезалась на сочинении, идти на вокзал покупать билет домой, – направилась в приёмную комиссию. "Жозефина наверняка знает оценки до того, как их вывесят на доске объявлений".
– Уже смотрела, – состроила смешную рожицу Жозефина, – в списках двоечников тебя нет.
– Может, не заметила, моя фамилия Давыдова.
– Да нет же, нет. У тебя тройка. Расслабься и готовься к математике.
– А с тройкой есть надежда?
– Сдашь математику на четвёрку – значит, зачислена. У нас на этом экзамене отсеиваются больше, чем на сочинении. Кстати, не зубри. Забудешь какую-нибудь формулу – попробуй вывести её на черновике. Черновик тоже нужно сдавать. Наш Кащей, если соображаешь, сразу просечёт.
– Почему Кащей?
– Его боятся больше всех преподавателей. На пятёрку не надейся, на пятёрку, говорит, он и сам не знает.
"Григорий Николаевич считал меня способной, но что это может значить здесь, куда съезжаются со всего Союза"? – думала Тайло. Снова, как перед первым экзаменом, надежда сменялась тягостным чувством неизвестности. Необходимость вернуться в Дербент повергала в отчаянье. Что там ждет? Квартальная премия в размере половины оклада в случае перевыполнения плана по кабачковой или баклажанной икре на консервном заводе? Вот и вся перспектива.
Привиделся дом. Настольная лампа высвечивает в темноте разложенные учебники. Школа, где так и не стёрлись различия между мусульманскими, еврейскими и русскими детьми. "Евреи учились лучше, но это в Дербенте, а как выдержать конкурс в Москве? Если нет возможности плыть, сопротивляясь течению, только и остаётся – идти на дно. Нет, нужно пересилить себя и сделать всё, что от меня зависит, – барахтаться из последних сил. Говорят, на экзамене могут быть задачи, которые не входят в школьную программу".
Накануне экзамена Тайло не могла уснуть, инстинктивно искала поддержки своего учителя. Вот он стоит у доски необожжённой стороной лица к классу и увлечённо рассказывает о Пифагоре, Эвклиде, иррациональных числах, предполагающих не только опытное подтверждение, но и интуитивное знание. Благородный профиль Григория Николаевича, его вдохновение уводили в мир должного, или как он говорил – "идеального бытия".
Магия абстрактных чисел сочеталась у искателя мудрости с конкретной любовью к детям. Будучи завучем школы, Григорий Николаевич приходил к первоклассникам домой, смотрел, где ребёнок спит, где делает уроки. Увидит, кто в рваных башмаках, купит на свои деньги новые и подарит, вроде как от родительского комитета. Был внимателен ко всем, особенно к тем, кто выказывал упорное нежелание понять очевидную истину: дважды два четыре. Вопрос "почему?" относил не на счёт тупости ученика, а к его неумению выразить словами свое представление о том, что за каждым арифметическим действием, числом скрывается особенная значимость. Знал старый учитель, чего стоит девочке в Дагестане отстоять своё право уехать одной из дому, вот и пришёл к родителям Тайло со словами: "Опасение перемен не страхует от бед, невозможно предвидеть, что с нами случится". Примером тому рассказал историю своей семьи:
– Дворянское звание и землю в Симбирской губернии моему крепостному предку пожаловал Петр Первый за храбрость в Полтавской битве. И фамилию дал – Воинов, ведь у крепостных были только имена. Спустя двести лет в нашей обедневшей дворянской усадьбе Воиновых останавливался попечитель гимназий Симбирской губернии Ульянов – отец Ленина. Все барышни в нашей многодетной семье были учительницами, а мальчики – юнкерами.
– Хорошо, если детей много, – вздохнула мама.
– Хорошо, – вглядываясь в далёкое прошлое, отозвался бывший дворянин. – Мы не чурались никакого труда, у нас было несколько коров, сами делали и продавали масло. Сестры по вечерам развешивали масло по фунту, упаковывали в специально заказанные пакеты и сдавали в магазин. Масло от Воиновых пользовалось большим спросом. Пока девочки занимались маслом, кто-нибудь из мальчиков читал вслух классиков, будь то литература или философия... Помню, когда сёстры садились за фортепьяно, им, чтобы держали руки прямыми, на запястье ставили чашечку горячего кофе. Мои сестры умерли от испанки, а братья после революции погибли в гражданской войне. Из всей семьи я остался один.
Григорий Николаевич замолчал, затем с горечью добавил:
– Такая жизнь. Математика, к которой способна ваша девочка, – продолжал старый учитель, – это мир, где человек свободен. Математика – язык Бога.
"Если числа организуют и упорядочивают Вселенную, – думала по этому поводу Тайло, – а Единица – исходная чисел, всеобщая сущность, значит, она соотносится с Единым Богом евреев".
Её родителям – Хизгилу и Ноами – нечего было возразить на слова любимого учителя своей дочери.
Григорий Николаевич, живший без семьи в крохотной квартирке на заднем дворе школы, мог только давать – одаривать вниманием, участием, заботой. Брать же ему казалось противоестественным. Сколько раз подступалась к нему сваха – хотела жену привести в его одинокий дом. "Жениться нетрудно, – говорил старый холостяк, – но ведь я ничего не могу дать жене". "Наверное, стесняется своей деревянной ноги и обожжённого лица", – искала Тайло причину одиночества самого достойного человека из всех, кого она знала.
Натренированное умение видеть решение задачи разными способами помогло на экзамене. В черновике Тайло дала два дополнительных варианта решения, и пятёрка по математике компенсировала тройки по сочинению и иностранному языку. Несколько раз она перечитала свою фамилию в списках поступивших и всё боялась поверить своим глазам.
Прошедшие по конкурсу абитуриенты с первых же дней распределились группами. Модно одетые, раскованные в движениях москвичи. Иногородние, подсчитывающие мелочь у кассы институтской столовой. Нацменьшинства – узбеки, таджики и прочие, объединенные одним словом: чурки или чуреки. Последние хоть и сняли свои тюбетейки, всё равно держались особняком. Почти все они были "целевики": направлялись из союзных республик, то есть шли вне конкурса. Среди "целевиков" оказался лезгин из Дагестана, Тайло сразу выделила земляка. Тот тоже приметил её – здоровался, улыбался, но не заговаривал. Оба знали: просто так встречаться нельзя, а смешанные браки в их краях невозможны; если случалось такое, еврейская девушка должна отказаться от родных и принять ислам.
Новые впечатления студенческой жизни заполняли день, а ночью во сне особенно ощутимым становился запах дома – сушёной хурмы, козьего сыра, горящей в печке подсолнечной шелухи. Шелуху отец приносит с маслобойного завода мешками, тепла от неё немного, зато надолго сохраняется аромат жареных семечек... Слышался шум прибоя, и виделось гаснущее в горах солнце.
Среди, казалось бы, весёлой студенческой кутерьмы Тайло не оставляло чувство отдельности. В огромной многолюдной Москве она была чужой. Причастности к новому городу помогала мимолётная улыбка идущего навстречу человека, просвет в затянутом тучами осеннем небе, радость внезапно найденного решения трудной задачи. И в то же время достаточно было пренебрежительного взгляда кого-нибудь из студентов, как тут же возникало горестное сознание своей чужеродности, женской непривлекательности и бесплодности надежд. В удручённом состоянии магия цифр в воображаемой формуле гармонии мироздания не приносила радости, не давала ощущения раскрепощённости, полёта души.
Училась Тайло серьёзно, обстоятельно. Для неё, с детства привыкшей к труду, не было вопроса: интересно – не интересно, хочу – не хочу. Учёба – та же работа: всё должно быть выверено, аккуратно сделано, как в их с мамой хозяйстве, где морковку, лук, картошку перебирают, сортируют – что нужно есть сейчас, а что оставить на зиму. Фасоль сушат и ссыпают в полотняные мешочки, лук хранится в плетёных корзинах – всего должно хватить до следующего урожая. Провинциалка ходит на все лекции и с одинаковым усердием старается всё записать, запомнить. Нет в ней лёгкости москвичей, которые, казалось, живут и учатся играючи. При распределении внимания на все предметы притупился интерес к математике; любимый предмет словно отодвинулся, подёрнулся пеплом, как остывающие угли в печи. Для Григория Николаевича она была самой умной, талантливой, а здесь никому до неё дела нет. Часто возникали сомнения – приведут ли к чему-то её старания. Всё более призрачной становилась юношеская мечта найти закономерность соотношения чисел и всего происходящего в мире.
Студентка из мало кому известного Дербента чувствовала себя в столичном городе ни к кому и ни к чему не причастной. И с Ольгой, которая жила с ней в одной комнате общежития, разговора не получалось. Отец Ольги – секретарь парткома самой большой шахты Кузбасса. Наверное, поэтому её поселили в общежитии для иностранцев. Про себя же Тайло знала – попала сюда случайно, благодаря Жозефине, и если окажется недостаток мест, её тут же переведут в общежитие для отечественных студентов. В особенно тоскливые минуты вспоминался Шабтай из Самарканда, он готов был и маму взять к себе. "Не скажи я ему, что хочу учиться, всё сложилось бы по-другому. Может, зря сказала; я не та невеста, на которую найдутся охотники". В долгие зимние вечера память снова и снова возвращалась к дому: виделась каменистая тропинка, кизил у дороги, чернеющие к ночи вершины гор.
Наконец сдана первая сессия, и Тайло едет домой, где для мамы она самая красивая, самая любимая, а для Григория Николаевича – гордость и упование: есть у него ученица, которая будет додумывать его мысли. Оказавшись на железнодорожном перроне своего города, Тайло с нежностью оглядывает искрящийся снег – снег скрипит под ногами и пахнет талой водой. С радостью вдыхает дым из труб, различая запах горящей ольхи, бука. "Гочи рассказывал: сто лет назад количество жителей определялось числом дымов. Дома могло не быть, но если из земли-землянки шёл дым, значит, там живут люди…". В дрожащем морозном воздухе четко очерчены снежные вершины гор. Куполообразная гора-великан Шаг-Даг на этот раз показалась не такой величественной, как всегда, а многовековая, из огромных камней стена, когда-то защищавшая Дербент от набегов кочевников, вовсе не неприступной.
До появления старого раздолбанного автобуса, что три раза – утром, днём и вечером – ездит из их посёлка на станцию и обратно, оставалось полчаса. Погуляв по перрону, Тайло вошла в привокзальное помещение. Там горела круглая железная печка, пахло куриным помётом, мокрой овчиной. У печки спал, свесив голову, совсем уж ветхий старик. Мальчик, что был при нем, с любопытством посмотрел на незнакомую девушку и в смущении отвернулся. Заросший серой щетиной сельский житель в расстегнутом кожухе примостился возле своих мешков, от которых тянуло запахом лука и прокисшего вина. В углу, сбросив на плечи толстый пуховой платок, дремала женщина. Возле неё на полу стояли широкие, завязанные тряпками корзины; в них шуршали, квохтали куры.
– Вай! Деточка моя! – встрепенулась женщина. И Тайло тотчас узнала звонкоголосую мать Софико.
– Тётя Лиза, здравствуйте! Здесь темно, я не узнала вас.
– Дорогая моя! Ты вернулась! Радость какая матери! Насовсем приехала?! А кто злые языки чесать станет, наплюй в их поганые рты.
– Я на каникулы, на две недели.
– Что же тебя отец на лошади не встретил?
– Не хотела беспокоить. Сама доберусь – дорогу знаю.
– Вай! Зачем одна, не сирота ведь! А я вот кур на здешнем базаре купила дёшево.
– Так много! Вы птицеферму собираетесь заводить?
– На свадьбу много надо. Подкормлю, жирными станут. Ты ведь помнишь наши свадьбы, целую неделю гуляем. Гости приходят, уходят, опять приходят. Зурны, бубны, барабаны. Всех накормить надо, уважить.
– Кто из ваших сыновей женится? – Тайло представила рослых рыжих братьев Софико. Вспомнила и тот день, когда первый раз оказалась в их доме и любовалась открытым праздничным лицом тёти Лизы. Сейчас у неё вокруг глаз морщины, обвис подбородок, но глаза всё те же – светятся.
– Подружка твоя замуж выходит!
– Да что вы! За кого?
– А то ты не знаешь! Ещё в школе на позор всей семьи гоняла с ним на мотоцикле. Вот и ты тоже уехала, неизвестно, как ты там живёшь…
– Нормально живу, учусь.
– Кому нужна твоя ученость, женщине с дипломом трудно выйти замуж. Не слушаетесь вы старших. И как мать разрешила?
– А я не спрашивала.
– То-то что не спрашивала, никто бы не отпустил. Хорошо бы родня приютила, а то одной на пустом месте как начинать жизнь? Часом, не к Гочи наведываешься? Он ведь тоже в Москве живёт. Свой человек, мало ли чем поможет.
– Нет, его не видала, – чуть слышно проговорила Тайло.
– Я тебе дам телефон Гочи. Мать его часто ко мне заглядывает. Посылку передашь.
– Передам…
– Вообще-то свадьбу не зимой, а в конце лета гуляют, – вздохнула тётя Лиза, – в сезон, когда урожай уже собран, новое вино поспело. Хорошо, у нас дом большой – много народу поместится, и всё равно во дворе поставить столы лучше. Молодые торопятся, а то дедушка жениха совсем плох, боятся, если помрёт, потом год нельзя свадьбу гулять.
Тайло хотела спросить о Гочи, что делает, как живёт, но даже имя его не решилась произнести. Заговорила о Симоне – женихе Софико. Оказалось, он работает на том же электроламповом заводе, куда пошёл после школы, и Софико туда же устроилась.
– Дорогая, молодец, что приехала! – мать Софико обняла Тайло. – Ты ведь главная подружка невесты. Такой подарок ей! Десять лет за одной партой сидели. – И тут же спохватилась, глянув на часы: − Вай! Сейчас автобус придёт! А может, он уже здесь!
– Я помогу вам, – Тайло ухватила самую большую корзину с курами.
Как только оказались на улице, из-за поворота вынырнул автобус. Не торопясь, будто знал, что без него не уедут, выволок на остановку свои мешки и сельский житель, так же, не торопясь, поднялся в автобус и обстоятельно разместился со своей поклажей. За ним взобрался старик с мальчиком. Потом водрузили корзины с курами. Шофер дал сигнал – не уснул ли кто в привокзальном помещении, угревшись у печки; подождал минуту-другую, и тронулись. Старый автобус трясло на колдобинах дороги, женщины ловили скользящие по проходу корзины, куры галдели, мальчик чуть заметно улыбался, придерживая сползающую на глаза папаху. Глядя в окно на покрытые снегом склоны хребтов, заснеженные сады, огороды, Тайло радовалась знакомым с детства местам.
– Останови, дорогой! – крикнула тетя Лиза водителю, лицо которого было закрыто по самые глаза бурой бородой. Они подъезжали к повороту на улицу, где жила Тайло.
– Я сначала вам помогу, – воспротивилась та.
– Иди, иди, мать заждалась тебя. За меня не беспокойся, меня мои мальчики ждут – у ворот стоят.
Нетрудно было представить, как братья Софико – добры молодцы, сажень в плечах ─ легко подхватят корзины. Оказавшись на дороге к своему дому, Тайло приостановилась, глубоко вдохнула морозный воздух и побежала. Сейчас бы одним махом распахнуть дверь, но боялась напугать маму.
– Ой! – мама замерла на пороге.
– Это я, – проговорила Тайло и обняла мать.
– Господи! Спасибо Тебе, Господи! Услышал меня, – плакала Ноами. – Я сейчас, сейчас печку затоплю, блины сделаю, какие ты любишь…
– Не надо ничего делать, мы сейчас пойдём с тобой к Софико, я тётю Лизу на станции встретила. Звала к ним, и тебя просила прийти.
– Да, я знаю, Софико замуж выходит. Счастья ей! Она часто забегает ко мне, спрашивает, не нашла ли ты там в Москве учёного жениха.
– Не нашла, – усмехнулась Тайло, увидев в глазах матери печаль и недоумение: как это такую умницу, красавицу – её дочку – никто замуж не позвал.
– Ты иди, иди к своей подружке. Там сейчас много народу, весело, а я завтра с тобой пойду к ним.
Тайло очень хотелось оказаться в знакомом праздничном доме, но мучила совесть, знала, как тяжела маме разлука; полгода не виделись. Нельзя же вот так сразу уйти.
– Вернёшься и всё мне расскажешь, – поняла её колебания Ноами.
"Про Софико расскажу, – подумала Тайло, – а про себя мне рассказывать нечего, разве что о своей тоске, но об этом с родителями почему-то не говорят. Им кажется ─ раз молодой и здоровый, значит, всё у тебя хорошо, весело живётся.
– Мама, а почему отпуск на твоём кабачковом комбинате всегда дают зимой? А летом нельзя получить? Мы бы могли с тобой куда-нибудь съездить.
– Спасибо тебе, но летом работы много, а зимой её нет. Да и куда летом от огорода уедешь. Мне и здесь хорошо. Правда, хорошо. Ты иди, пока не стемнело. Потом мне всё расскажешь, и про Москву расскажешь. Похудела…
– Ладно, я скоро вернусь.
Дочка ушла, а Ноами, счастливая, что та, наконец, дома, вспомнила свою свадьбу. Родные Хизгила не возражали против работящей сироты-бесприданницы. Красивую им сделали свадьбу. Она всё не верила своему счастью – мог ли такой славный джигит полюбить её? А как танцевал вокруг неё, будто нет девушки желаннее на свете. Разве чудо может длиться долго? – спрашивала себя Ноами. – Но разве бабочка, взлетающая в солнечное небо, спрашивает – надолго ли? "Хизгил и Ноами" – звучали песней их имена, "Ноами – Хизгил", – шептала листва, а ветер свистел: "Навсегда, навсегда…"
Тайло спешила. Казалось, от того, успеет ли она принять участие в подготовке к свадьбе, зависит нечаянная радость. Смеркалось, когда она вошла в знакомый, почти родной с детства двор. Там женщины чуть ли не со всей округи чистили огромные кастрюли, чаны, резали морковку для плова, ссыпали из мешков рис. В сарае блеяли овцы – пока ещё живой шашлык, галдели куры; кричал петух, должно быть, заявлял права на обильно пополнившийся гарем. Гостья незамеченной прошла в комнату Софико, там смеялись и дурачились девочки – развлекали невесту. Та с распущенными по плечам кудрями сидела королевой и почему-то не казалась счастливой. По обычаю, подружки всю неделю до свадьбы будут проводить время с невестой. Явятся даже на следующий день после свадебного обряда. Неужели невесте непременно нужно делиться впечатлениями брачной ночи?
Увидев Тайло, Софико бросилась ей на шею и, как в детстве, издала победный клич. Девочки подхватили её восторг – запрыгали, загалдели, перебивая друг друга. На их шумное веселье стали заглядывать взрослые, и "москвичка" оказалась в центре внимания. "Как ты там? Что делаешь? Где живёшь?" – раздавалось со всех сторон. А когда выяснилось, что ничего в жизни беглянки не изменилось, оживление спало. Женщины разочаровались, а может, не поверили. Как бы то ни было, девушка, оставившая дом, – не то, чтобы чужая, но и не своя. Её пример не должен касаться их дочерей. Неизвестно, как и с кем она там. Девочки-одноклассницы, которые уже вышли замуж или были просватаны, тоже отступились – мало ли что потом о них подумают.
Только Софико продолжала смотреть на подругу восторженными глазами:
– Если бы не ты, – смеялась она, – мне бы ни за что не получить аттестат. Помнишь, ты мне все контрольные по физике и математике решала. Успевала сделать свой и мой варианты. И на экзаменах написала ответы на все вопросы билета.
– А ты мне ошибки исправляла, сначала в диктантах, потом в сочинениях. Помнишь, однажды нас выгнали за это из класса?
– И мы тогда пошли к морю, помнишь, мы ещё удивлялись, что в тот день оно было желтого цвета.
Подруги уединились в дальнюю, заваленную приданым и подарками комнату. Чего только там не было: стопки простыней, свёрнутые ковры, посуда, хрустальные вазы, одежда, самовар.
– Не нужно мне всё это барахло, – усмехнулась невеста, – хочу с тобой в Москву. Ты опять уедешь, а я останусь. На том же месте, среди тех же людей. Хочу чего-нибудь нового, интересного. Да нет, ты не думай, всё у меня хорошо, просто приходят в голову всякие мысли. В один день воображаю себя бродячим музыкантом, в другой – циркачкой на проволоке или мотогонщиком. Я ведь и с Симоном стала встречаться потому, что катал меня на мотоцикле, кричала ему в спину: "Быстрей! Быстрей!". Летишь на бешеной скорости, отрываешься от земли… Он молодец, хорошо ориентируется, не забывал предела, бывало, останавливался у самого обрыва. Не знаю, как тебе объяснить, одним словом – хочется рвать и метать! Я ведь почему к тебе уроки приходила делать, – продолжала Софико, – не могла одна усидеть на месте. Увы, кончились приключения в моей жизни, да они и не начинались.
– Ты не любишь Симона?
– Любишь – не любишь, не в этом дело. В школе мне представлялось, мы с тобой уедем куда-нибудь вместе. И ведь влюблены были вместе. Один мальчик на двоих. Иногда мне казалось, будто мы обе – жёны Гочи. И ведь не злилась, не ревновала. Честное слово. Ты о себе расскажи. Как там, в Москве люди живут?
– Хорошо живут, всё покупают в магазинах – сыр, колбасу, мясо. И рисом не запасаются мешками, берут по килограмму.
– А ещё?
– Дома там высокие, народу много. Идёт кто-нибудь навстречу, а я думаю: вот этого человека я больше никогда не увижу. Потом привыкла к потоку людей и машин. Снег падает и тут же тает – превращается в грязную жижу.
– А в театр ходишь?
– Хожу.
– С кем?
– Одна.
Софико погрустнела.
– А что у Гочи слышно? – от волнения голос Тайло дрогнул.
– У него всё в порядке, второго ребёнка ждут. А я…, у меня выбора не было. Помнишь, девчонки по углам шептались, нас ведь не раз с Симоном видели вместе. И взрослые косо смотрели, вроде как опозорена. И мать его меня не хотела, возьми, говорит, скромную девушку. Ты же знаешь, здесь мать выбирает жену для сына. Симон упёрся, – если родители не хотят меня, женится на русской. Мать отступилась. Знаешь, не в Симоне дело, просто хочется чего-нибудь необычного.
В это время на улице послышались крики "ура!", звуки зурны, барабана. Уединившиеся девушки вышли на крыльцо. К дому подходила целая процессия: впереди мужчины с пылающими в темноте факелами, за ними женщины несут на головах огромные подносы с чуреками, подарками жениха. Следом зурначи и барабанщики, за музыкантами танцующие и поющие гости чуть ли не со всей округи. Даже старики и старухи приплясывают.
– Пойдём отсюда, – потянула Софико подругу, – невеста перед свадьбой не должна быть на виду. Давай съедим что-нибудь, весь дом чуреками завален. И матери отнеси, скажи ей, что ты – главная подружка и должна неделю перед свадьбой провести с невестой. Завтра с утра вместе приходите. Я её сегодня утром звала – не идёт. Знаешь, ваш дом мне тоже как родной. Сколько я у вас молока выпила за десять лет. Дома козье молоко в рот не беру, а у вас вкусно.
– Ладно, до завтра. – Тайло выскользнула во двор и, держась поближе к изгороди – там темнее, отделилась от всеобщего веселья.
Ноами сидела в едва освещённой кухне – ждала. При виде дочки встрепенулась, глаза засветились, и тут же бросилась подавать ужин.
– Ну что ты, – засмеялась Тайло, – разве можно прийти голодной из дома, где готовятся к свадьбе. Ещё и с собой принесла, Софико целый мешок всего наложила, смотри.
Ноами стояла растерянная: что же ещё она может сделать для дочки, если не накормить. А просила она только одного: "Пиши чаще, хоть несколько слов, и я буду спокойна, буду знать – у тебя всё в порядке; жива, здорова. Слава Богу, всё хорошо".
"Всё хорошо" – как заклинание повторяла про себя Тайло, нырнув в свою привычную с детства постель, пахнущую высушенной на солнце овечьей шерстью и сухой травой. В сонном сознании пунктиром обозначилась мысль о том, что семья Софико не такая уж и богатая, раз тётя Лиза ездит зимой на неблизкий базар за курами. В бесконечных накатывающихся волнах моря без берегов растворяются мысли. Вынырнули слова Григория Николаевича: "Мнимые числа Лейбница – поразительный полёт духа Божьего, обитающего между бытием и небытием. Мнимые числа… иррациональные числа… бытие – производная от небытия…" То был последний обрывок мысли на пороге небытия – сна.
Утром, ещё не открыв глаза, Тайло услышала тишину дома: едва уловимый шорох подсолнечной шелухи в мешке, посвист ветра в печной трубе, падающие капли сыворотки из отцеживаемого творога.
"Мама уже встала, она всегда просыпается раньше меня и находит себе работу. Сейчас что-нибудь шьёт или чинит. Сказать бы ей хорошие, обнадёживающие слова, обрадовать, но ничего замечательного не случилось. Не рассказывать же о Фаруке – студенте из Сирии, что жил в соседней комнате общежития. Он и сейчас там живёт, а меня переселили из светлых хором в полуподвал барачного строения у метро "Электрозаводская" – в общежитие для советских студентов. А могли и не переселять, там не одна я была из Российской Федерации. Тут не помогло бы и обращение к Жозефине, что дала направление в царские хоромы для иностранцев. Да и так ли это важно, где жить, – была бы крыша над головой.
Фарук, когда в широком коридоре мы шли навстречу друг другу, отступал к стенке, почтительно склонял голову и прикладывал руку к груди. Стройный, подтянутый, в отутюженной серой тройке и золотом пенсне, он, конечно, выделялся среди русских студентов не только одеждой, но и манерами. Жил Фарук в соседней комнате с Аббасом – тоже студентом из Сирии. Такой же, как у Фарука, серый костюм в едва заметную белую полоску не делал упитанного, невысокого Аббаса элегантным. И у него, в отличие от корректного Фарука, не сходила с лица добродушная улыбка. Аббас ухаживал за Олей, с которой мы жили в одной комнате. Оля в его присутствии забывала обо всем на свете – становилась мягкой, податливой. Румяная с ямочками на круглых щеках, и подобно Аббасу, полноватая, она напоминала сладкий персик, который непременно нужно съесть здесь и сейчас; она так и просилась в руки своего ухажера. Тот дарил ей коробки конфет, духи; они вместе пили чай и о чём-то шептались. Прежде чем войти в комнату, я стучалась, потом долго топталась перед дверью, давая целующимся время оторваться друг от друга. Счастливые, они ходили, не разнимая рук, – так дети ходят парами в детском саду. Аббас не упускал случая заглянуть к нам в комнату и одарить свою избранницу любящим взглядом, улыбкой. У Оли, при такой привязанности, не было сомнений – он, конечно же, женится и увезёт её за границу.
Таинственная заграница… Кто знает, чем бы кончилось становящееся всё более заинтересованным почтительное внимание принца Фарука, которого я воображала то ли сыном султана, то ли короля, не узнай он, что я еврейка. В один из холодных декабрьских вечеров, когда ветер и дождь ломятся в окно, мальчики пришли вдвоём. Фарук поставил на стол роскошную коробку с самым дорогим тортом и попросил разрешения сесть. Шёлковый оранжевый абажур сиял в тот вечер особенно празднично. Необычно вкусный торт, по-щенячьи ласковый Аббас, жавшийся к Оле, создавали ощущение уюта, покоя. Фарук благосклонно поглядывал на меня, прислушиваясь к последним известиям по радио. Говорили о войне Израиля с арабскими странами: "Израильские агрессоры атаковали аэродромы Египта, военно-воздушные базы Иордании, уничтожили сирийские самолёты… израильские войска перешли в наступление и злодейски разгромили сирийские танки…". СССР призывал к ненависти: "Не будет мира с еврейским государством, не будет признания Израиля арабскими странами".
Я молча радовалась – война опровергала мнение о том, что евреи только и могут быть униженными, гонимыми. Может быть, теперь, когда у нас есть своё государство, старики Дербента побывают, наконец, на земле предков, мечты о которой передаются из поколения в поколение.
– Чему вы улыбаетесь? – неожиданно зло спросил Фарук.
Не сразу осознав, что он, будучи из Сирии, переживает за свою страну, я произнесла с ликованием:
– И у нас есть, наконец, своё государство!
─ Ты!.. Ты!.. Ты еврейка!? – Фарук окаменел
– Да, – простодушно ответила я, удивляясь внезапной ненависти только что учтивого гостя.
В следующее мгновенье он резко поднялся и строевым шагом направился к двери. Растерянный Аббас тотчас двинулся за ним. Должно быть, он приставлен к Фаруку, которого я представляла не иначе как сыном султана, в качестве телохранителя.
На другой день меня переселили в общежитие к российским студентам, где в небольшой полуподвальной комнате пять кроватей впритык друг к другу, и струи дождя выхлёстывают из грязной лужи на окно фонтаны брызг. "Почему у тебя поменялся адрес?" – спрашивала мама. Я её заверила, что в другом общежитии гораздо лучше".
– Я не сплю, – откликнулась Тайло заглянувшей в комнату Ноами.
– Вот и хорошо, уже десять часов, вставай, чай будем пить. Отец чуть свет заходил перед работой, узнал, что приехала.
– Как он?
– Всё так же и работает там же – у маслодавильного пресса стоит. – Ноами едва заметно улыбнулась, ей было приятно упоминание о муже, настоящее не отделялось для неё от прошлого, и никого другого она не представляла на месте Хизгила. – Только за его настроением не уследишь, то радуется непонятно чему, то кричит. Я не обижаюсь, у каждого своё на душе.
Глядя на склоненную голову матери, на её готовность принимать бывшего мужа таким, какой он есть, Тайло вспомнила объяснение отца, почему он, будучи удалым, завидным женихом из уважаемой семьи, женился не на ровне, а на сироте-бесприданнице из глухого села. "Она была очень, очень милая. И добрая – видела нужду каждого, старалась помочь". До сих пор мать благодарна человеку, который когда-то сделал её счастливой, вспоминает его нежность, заботу.
А Ноами, накрывая на стол, думала: "Трудно моей доченьке придётся – своим умом живет, мужчины таких не любят. Отдать бы ей остаток своих сил". Так старое дерево счастливо отдать молодому побегу всё, что накоплено за долгую трудную жизнь.
Неделя, прошедшая в весёлых предсвадебных хлопотах, не раз возвращала Тайло к мысли о том, что мудрость проста и состоит в любви к ближнему своему. Или очень сложная – запредельная, и человеку не дано её понять.
Тайло с Ноами пришли на свадьбу в тот момент, когда раввин читал брачный договор: "Муж должен кормить и одевать жену, жить с ней в мире. В случае, если захочет развестись…"
– Не захочу! – вскричал наряженный во всё новое жених. – Никогда не разведусь!
– В случае, если муж захочет развестись со своей женой, ─ повторил ревнитель закона, – он обязан выплатить…
– Миллион рублей! – воскликнул Симон.
– Тысячу рублей, – записал невозмутимый хахам. – Кроме того, разведённой останется та одежда, которую он ей подарил до свадьбы. Если же причиной развода станет жена…
– Не станет! – запротестовал Симон. – Ей не на что будет жаловаться.
Вдруг он с опаской посмотрел на ослепительно красивую невесту, словно усомнился, всё ли зависит от его стараний. Та засмеялась, стоящие вокруг родные, гости стали улыбаться: мысль о разводе показалась нелепой.
Заиграла зурна, затем другая, третья, все начали петь, сначала тихо, потом всё громче, громче: "Жених и невеста как звёзды блестят, да будут они благословенны Богом Израиля. Жених сияет, как утренняя заря, и невеста прекрасна, как царица… Избавитель всех бед да пребудет во время жениха и невесты…" Стройные голоса, словно присутствующие только и делали, что упражнялись в хоровом пении, вселяли надежду, что именно так и случится. "Да процветут жених и невеста как розы и цветы душистые…", и все верили в этот момент, что долговязый Симон, и в самом деле стройный, как кедр ливанский, и сияет подобно утреннему солнцу. "И будут они храбры как лев и львица. И доживём мы увидеть святой град Иерусалим, и водворится наш Храм на святой горе". Никто из присутствующих не был в Иерусалиме, но песни эти поют из века в век, будто передают эстафету упования, веры. Молодые освящаются благословением: "И да будут дети ваши и внуки людьми благочестивыми, добрыми, честными и богобоязненными в среде израильского народа".
Незамужним девушкам тут же, немедленно захотелось под хупу, чтобы и их напутствовали этими словами на всю жизнь. Сколько раз гости видели просветлённые лица стоящих под хупой жениха и невесты. Даже в том случае, если до свадьбы девушка только один раз видела своего суженого. Божье благословение было ей залогом чистой праведной жизни. Благословение сильнее непостоянного чувства влюблённости. Тайло попыталась представить своего будущего жениха и не смогла – Гочи стоял перед глазами.
Невеста с женихом под балдахином – белым шелковым платком. Вокруг толпятся женщины с зажженными свечами. Снова звучит музыка, томящая Тайло предощущением счастья, утратой его, воскрешением и мучительным сознанием, что нет того, кто должен стоять рядом.
Невесту с музыкой и пением ведут в дом жениха, у порога ей мажут ладошку мёдом, дабы не испытывала она в своей новой жизни горьких минут. В первую неделю замужества подружки будут развлекать новобрачную. Наверное, ей так легче перейти от беззаботного девичества к роли жены, работницы в чужой семье.
– А можно, мы с мужем к тебе в гости приедем? – спросила у "москвички" Зульфа; в детстве они вместе проводили время, подолгу играли в мяч. Сейчас Зульфа никак не могла решить: завидовать соседке, что та вырвалась в столицу, или наоборот – радоваться своему благоразумию. Она в отличие от беглянки не бросилась очертя голову неизвестно куда и зачем. Стоявшие рядом девушки смолкли. Ждали. Если Тайло откажет, значит, скрывает что-то непотребное, по плохой дорожке пошла.
– Можно. Только я живу в общежитии. Будем спать на одной кровати. А вот мужа твоего мне негде устроить.
– Одна я не поеду, ─ гордо вскинулась Зульфа, мол, не такая как ты.
Почти каждый вечер заходил отец и всегда что-нибудь приносил: баранью ногу, банку мёда, чуть ли не мешок риса. Присаживался к столу не то гостем, не то хозяином. Счастливая мама подавала ужин; все были на месте – любимая долгожданная дочка и незаменимый, единственный в её жизни мужчина. "Пусть так, – думала Тайло, глядя на родителей, – если женщин больше, пусть будет один на двоих. Разрешено же было у евреев многожёнство. И можно любить человека независимо от того, спит он с тобой или нет".
Теперь, когда мать Софико попросила передать Гочи посылку от его родителей, встреча стала неизбежной. "Вот он распахивает дверь и... И мы стоим друг против друга, как тогда по дороге в школу во время грозы. Интересно, он и с женой делится своими мыслями?" Жена то вырастала между ними крутой горой, то таяла как льдинка на солнце. "Гочи искал в истории живую душу, его занимал вопрос: может ли устройство отдельной страны отличаться от устройства других странах, и каким образом противостоять окружающим народам. Тогда я не знала ответа, а сейчас бы сказала: может! Так же, как отдельный человек может сохранить свою независимость".
Навещала ли Тайло новобрачную, ездила ли с мамой в аул к брату, где играла с виснущими на ней племянниками, – всюду незримо присутствовал Гочи. Почему-то казалось, что и он ждет не дождётся встречи с ней. Когда воображение уносило совсем уж далеко от берегов реальности, она одёргивала себя, тушила неуёмную фантазию, но в следующий момент забывала о благоразумии и вновь уплывала в мечту.
Второй раз Тайло едет в поезде Дербент-Москва. Она лежит на верхней полке и пытает судьбу: "За какие такие заслуги жене Гочи выпало счастье быть рядом с ним? Неужели – всё дело случая? Случайно оказались в одном окопе солдаты и договорились женить своих будущих детей. На посылке Гочи написан его адрес и телефон, казалось бы, так просто позвонить и встретиться... Задушить бы горестное недоумение, смириться с мыслью, что наши жизни больше не пересекутся, и может быть, тогда уйдёт боль, вернее, окуклится как кокон шелкопряда…" Под мерный стук колёс мысли о случайности, закономерности, справедливости наплывали одна на другую. Представилась призрачность несбыточной формулы гармонии мира, когда всем станет хорошо.
Будучи в Москве, Тайло оттягивала встречу с Гочи, боялась, что первая встреча окажется последней, и тогда больше нечего будет ждать. "А если к телефону подойдёт жена и сразу обо всем догадается? Я стану что-то лепетать, оправдываться. Она скажет: посылку пришлите по почте. И всё. Больше не будет повода звонить. Но в воскресенье он наверняка дома и сам может подойти к телефону".
В воскресенье Тайло нашла дом Гочи, долго топталась перед его подъездом, наконец, открыла парадную дверь и медленно, ступенька за ступенькой, поднялась по лестнице. Нужная квартира оказалась на третьем этаже. Постучалась. За дверью слышен плач новорожденного. Снова постучалась. Откликнулся раздражённый женский голос: "Кто там?" И тут же, как показалось пришедшей, женщина с издёвкой добавила: "Свои все дома, а чужих не надо". Тайло подняла было руку, чтобы постучать ещё раз, но отступилась и стала спускаться. Когда уже миновала два лестничных пролёта, услышала щелчок замка и голос Гочи: "Вернитесь! Вы кого-то ищете?" Тайло затаила дыхание, стояла не шевелясь.
– Кто вам нужен? – снова спросил Гочи.
– Кто это? – послышался капризный голос жены.
– Не знаю, уже ушёл, – ответил Гочи, и дверь закрылась.
Девушка подумала – а не подняться ли ей снова, и увидеть…, только увидеть. Не решилась – не было сил смотреть на семейную идиллию своего вымечтанного друга.
Спустя несколько дней позвонила. На вопрос, можно ли говорить с Гочи, услышала ревнивый голос: "А кто вы такая?" ─ "Я живу в Дербенте, мы учились вместе. Случайно проездом оказалась в Москве", – стала оправдываться Тайло, мол, скоро уеду, не беспокойтесь. На другом конце провода последовало молчанье, затем звук брошенной трубки. Судя по голосу, благополучная, избалованная жена Гочи ничего общего не имела с покорными мужьям горскими женщинами. "Даже если бы он сам взял трубку, всё равно не смогли бы договориться о встрече. А может, он рассказывал про меня. Вот она и злится".
Прошло ещё несколько дней, нетерпение увидеть Гочи, казалось, поубавилось. И когда приняла окончательное решение послать посылку почтой, Тайло неожиданно для себя оказалась с утра пораньше у подъезда школьного друга. "Был ли он мне другом? – засомневалась девушка. – Просто разговаривали. Но ведь только со мной он делился мечтой понять, каким образом из прошлого исторического опыта можно представить будущее. Только мне рассказывал свои мысли о ходе мировой истории". Девушка стояла у снежного сугроба на детской площадке, этот наблюдательный пункт был как раз напротив его подъезда. Она готова была стоять и час, и два: только бы вышел. Холодный, колючий ветер становился сильней, резче; подтаявший вчера на солнце снег за ночь покрылся ледяной коркой, и казалось, эта пронизывающая стужа надолго – навсегда. Спасаясь от ветра, Тайло сделала несколько шагов к дому. Дверь подъезда открылась… Он первый пришёл в себя:
– Как ты попала сюда!?
– Вот… посылку тебе принесла, – произнесла влюбленная девушка и почувствовала свое лицо, окаменевшее в горестной безнадежности.
– Так рано! Почему не позвонила, мы бы встретились.
– А мы и так встретились, – подавила вздох Тайло.
– Я про тебя всё знаю, – медленно заговорил Гочи, ─ учишься в пединституте.
– Учусь… – Тайло хотела вобрать в себя, запомнить навсегда того, о ком болела душа, и тогда, может быть, уйдет боль. Но накопившаяся тоска становилась нестерпимой ещё и потому, что перед ней стоял совсем другой человек: он потускнел, в когда-то внимательных глазах – усталость, почти безразличие.
Гочи усмехнулся:
─ Увидел себя твоими глазами. Да, я уже не тот восторженный мальчик, мечтавший предложить миру разумное общественное устройство. И мы с тобой не первые люди на земле, которые по своей воле могут решить свою судьбу. Отец думает: всё у меня хорошо, живу в Москве, двое детей, неплохо зарабатываю. А мне всё кажется, будто живу чужой жизнью.
Они уже спустились в метро и стояли посреди вестибюля, им нужно было ехать в разные стороны.
– На работу спешу, – проговорил Гочи.
– Где ты работаешь?
– На станкостроительном заводе, "Станколит" называется. Первая смена начинается в семь ноль-ноль… – Он замолчал, глядя куда-то в сторону, поверх снующих вокруг людей.
Потом, словно оправдываясь, заговорил:
– Отец мне с младенчества твердил: невеста ждёт тебя, и я боялся обмануть ту, которую ни разу не видел. Теперь я работой доказываю право на семью – стою у станка по две смены. А могло быть всё не так… – Он ещё что-то хотел сказать, но резко развернулся и смешался с толпой на перроне, с такими же спешащими, угрюмыми, не выспавшимися людьми.
В институте Тайло обнаружила в сумке неотданную посылку, теперь-то уж точно отправит её почтой. В это хмурое зимнее утро время раскололось, как лёд на реке. Полынья ширилась, теперь не добраться до желанного берега. Нужно обживать новое пространство. Закончилась последняя лекция, Тайло спустилась вместе с ватагой студентов в гардероб, взяла пальто и остановилась – забыла, куда собиралась идти. Вернула пальто гардеробщице и, постояв в нерешительности, направилась в столовую. Последние дни в ожидании встречи с Гочи от волнения не могла есть. А сейчас привычный порционный обед из щей, котлет с макаронами и компота, казалось, успокоит, вернёт к реальности.
В полуподвальном помещении студенческой столовой уже никого и ничего не было. На раздаче стояла последняя порция сосисок с тушеной капустой. Кассирша, ворча, сунула деньги в карман: «рабочий день окончен, а тут торчишь за здорово живёшь». Тайло присела к столу у входа, на нём ещё не были составлены опрокинутые стулья – орудующая шваброй уборщица не дошла сюда. Хорошо было в общежитии для иностранцев, там сияющий чистотой буфет работает допоздна, на столе тарелка с аккуратно нарезанным белым и чёрным хлебом – ешь сколько хочешь. Чай, винегрет – вот тебе ужин за девять копеек. И от метро близко. А к новому общежитию нужно долго тащиться по протоптанной в грязном снегу дорожке; с одной стороны – пустошь, с другой – обшитые ржавой жестью низкие строения ремонтных мастерских.
На доске возле вахтёра висит ключ. "Значит, дома никого нет", – тоскливо подумала девушка. В комнате сумрачно, зябко. Бил озноб, болела голова, холодная постель не согревала. "Уснуть бы и забыть исчезнувший мираж, потерявшийся в пустыне след". То ли во сне, то ли в сумеречном сознании Тайло видит себя обнаженной перед зеркалом: над плотной нижней частью тела – лёгкий торс, узкие плечи, удлинённое лицо, высокая шея; голова устремлённой вверх птицы. Низ – ломовой лошади, а верх – лёгкой косули. "Кому по силам такая раздвоенность, и почему она так явно проявилась во мне?"
Всплыли минуты полного одиночества: "Вот сижу перед догорающими в печи сучьями; вспыхивают и гаснут синие огоньки на подёрнутых пеплом углях. Или в ночном небе пытаюсь разглядеть спрятавшуюся звезду: вдруг звезда не выглянет из-за туч – и тогда ничего хорошего в жизни не случится. Запомнилось и одиночество маминых подруг, всегда в чёрных одеждах и низко повязанных платках, один день которых ничем не отличается от другого. Они справляют трудную будничную работу – жить неприкаянными вдовами; мужья ушли на фронт сразу после свадьбы и не успели зачать ребёнка. Запал в душу и старый клоун с облезлой вислоухой собакой, неизвестно откуда появившийся на базарной площади. Над ужимками старика смеялись, а ей – пятилетней девочке – хотелось плакать от жалости к бедняку, то и дело оглядывающемуся на медяки, которые бросали ему в жестянку.
Вот и Григорий Николаевич один живёт. Из всех знакомых женщин трудно кого-нибудь представить его женой. Особенную нежность почему-то испытывает к равнобедренным треугольникам. Любит детей, в них пытается разглядеть ручеёк, который превратится в полноводную речку. Он казался мне волшебником, которому подвластны миры. Объяснял новый материал, как песню пел о бесконечном множестве, смыкающемся в единстве чисел. Слушая его, представляла, что возможно вычислить формулу гармонии мира и всего хорошего, что должно случиться с каждым. Романтический школьный учитель из Дербента не знал о последних открытиях в математике. Не знает их и преподаватель московского института, он никогда не выходит за пределы учебного материала, не делится своими мыслями и по поводу прошлых ученых, ни разу не упоминал Лейбница с его теорией предустановленной гармонии и разумной соразмерностью Божественного устройства Вселенной. Григорий Николаевич, окончивший университет ещё до революции, согласен с немецким математиком и философом семнадцатого века в том, что Дух Божий обитает между бытием и небытием. Небытие – то, что мой наставник, подобно Платону, называл сущностью, представляется интересней бытия, то есть реальности".
В проблемы однокурсников провинциалка не вникала, пропускала мимо ушей разговоры о весёлой студенческой жизни и, в отличие от других, не выясняла, почему на экзамене ей поставили четвёртку, а не пятёрку, всё ведь ответила.
Окончен еще один семестр, сдана вторая сессия, и Тайло едет в Дербент на летние каникулы – на целых два месяца. Оказавшись, наконец, дома, увидела на своём столе перевязанную стопку старых книг – и всё поняла... Мама отвела глаза. Изданные в прошлом веке книги: "Философия математики", "Наука и гипотеза", "Математика и логика" могли принадлежать только ему, её учителю.
– Тебе просил передать, – виновато сказала мама.
Тайло молчала, ещё не было произнесено страшное слово, и можно было отодвинуть происшедшее.
– Я тебе не писала, это случилось внезапно, ночью… инфаркт. До последнего дня работал. Утром в школе хватились: Григорий Николаевич никогда не опаздывал. Двери в его доме оказались незапертыми. Один жил, один умер. И родных никого не нашли. Не плачь. Люди не вечны. Душа праведника не умирает, поднимается к престолу Всесильного. Народу было больше, чем на любой демонстрации: все ведь у него учились – родители, дети. Все прошли через его заботу, никого не обидел. Мы сходим к нему на кладбище, я буду ухаживать за могилой.
Снова, как после расставания с Гочи, возникло ощущение беды, растерянности и неминуемого конца. Снова дорога, которая казалась бесконечной, оборвалась в каменистой пустыне. "Зачем я две недели зимой развлекала Софико, а к нему заглянула наспех, долгий подробный разговор отложила на лето. Почему думала, что к старому человеку, который всегда на своём месте, можно прийти в любой момент... Может быть, там – в другом – сущностном мире Григорий Николаевич узнал истину, которую искал здесь – на земле".
Прошёл ещё один год с сознанием необходимости ходить в институт, экономить деньги и варить картошку, бегая с кастрюлькой на кухню общежития в другой конец коридора.
Опять весна, летние каникулы, возвращение в свой дом и всегдашнее ожидание чего-то необычного – счастливой лёгкости, новизны.
– Приехала, а ко мне не заходишь, – услышала Тайло голос Софико.
Та стояла на пороге с младенцем на руках. Чуть пополневшая, она стала ещё красивее; просторное платье подчёркивало женственность форм кормящей матери.
– Я и не знала, что ты уже мама! – изумилась Тайло. – Сколько твоему ребёночку?
– Уже неделя, вчера из роддома выписали. – Софико с гордостью открыла личико новорождённого. – Принесла познакомиться.
– Вай! Совершено осмысленная мордашка! На тебя похож.
– Мы его ещё не зарегистрировали. Дай ему имя, как скажешь, так и назову.
– Ему жарко в шерстяном одеяле, разверни чуть-чуть. Не бойся, здесь нет сквозняка.
Ребёночек заёрзал и открыл глазки.
– Смотри, улыбается!
– Это он тебе улыбается.
– Чудеса! Глазки осмысленные. Всё понимает! Назови Григорием…
– Я так и знала, только ведь у нас нет такого имени, давай придумаем другое, но с той же первой буквой. Ну, например, Герциль, Гимриль, Гранд, Гавриил, Гершон, Гочи…
– Нет, Гочи это Гочи, давай – Гершон. Гершон – он же Григорий... Праведным человеком был Григорий Николаевич. Мама говорит: не обязательно быть евреем, чтобы оказаться в мире грядущем; праведники всех народов предстанут перед Всевышним. А какое чувство чести! Помнишь, он объяснял Гочи причину поражения меньшевиков; те не хотели поступиться принципами демократии даже в малом, и потому к власти пришли большевики. Считал, что государство должно давать возможность каждому развивать и реализовать свой талант; вот тогда-то и настанет век добра и справедливости. Полагал человека изначально добрым, не принимал во внимание зависть, злобу, будто их и не было.
– А хочешь, Гершон будет и твоим сыном? – великодушно предложила Софико. – На, подержи.
Тайло взяла из рук подруги живой свёрток, приложила к себе и замерла от блаженства. Так бы и стояла, не двигаясь, тепло младенца наполняло, давало ощущение уверенности, покоя.
– Все видят, что на меня похож, а мать Симона говорит – в их родню пошёл.
– Всё равно, на кого похож. Был бы здоровым и счастливым.
Через год Тайло снова приехала домой на каникулы. Теперь у Софико было двое детей; Гершон уже стоял на ножках, а маленький только родился.
Радуясь за подругу, Тайло чувствовала стеснение души, ей тоже хотелось детей. "Мама переживает, жизни не пожалела бы, только б у меня была семья. За всё время, что училась в институте, всего лишь один раз мальчик с биологического факультета, узкоплечий, в очках, во всегдашней клетчатой рубашке, пригласил в кино. Мы тогда вдвоём сбежали с лекций. Потом гуляли в парке – шли, куда глаза глядят. Холодный ноябрьский ветер казался предвестником весны, а осенний запах мокрого гнилого листа – запахом фиалок и талого снега. Спустя несколько дней Алёша позвал в гости. Мы сидели друг против друга и не знали, о чём говорить, что делать. Мне казалось, он хочет поцеловать меня, но не решается, а может, ему мешали очки. Он бы их, наверное, снял, если бы не пришла мама – молодая для взрослого сына, но очень усталая женщина. Она опешила, увидев меня, потом с демонстративным безразличием стала доставать из сумки бутылки с кефиром, хлеб, батон дешевой колбасы. "Между прочим, – проговорила Алёшина мама, – мы в этой маленькой комнатушке вдвоём живём, я пришла с работы и хочу отдохнуть". Я поднялась. И он встал, проводил до метро. Больше в кино не приглашал.
По правде говоря, когда была рядом с Алёшей, голубоглазым светловолосым мальчиком, не покидало чувство чужеродности, но ведь и здесь, в Дербенте, я уже не своя. Знакомые останавливаются при встрече, с любопытством расспрашивают, что можно купить в Москве, сколько чего стоит, улыбаются, но в гости не зовут. Напрасно мама заискивает перед свахой, стараниям которой обязана чуть ли не половина семей еврейских кварталов. Сваха только вздыхает и отводит глаза. Даже она, искусница в своём деле, не может найти мне жениха. Никто не хочет позора на свой дом. Только одна Софико смотрит восторженными глазами, ей столичная жизнь представляется сплошным праздником. Я её не разочаровываю, а то будет переживать за меня. И всё равно здесь лучше, чем в Москве, здесь мама не может нарадоваться мне и каждый проведённый вместе день считает подарком небес. Часто заходит отец, он почему-то за последний год не то чтобы постарел, а как-то осел, стал ниже ростом. Наверное, оттого, что сын его уехал в Россию; служил там в армии, там и женился. Теперь отец один на один со своей второй женой, прожитые годы не сблизили их. Ещё молодая, самостоятельная женщина, вопреки местным обычаям, заговаривает с чужими мужчинами, возвращается домой поздно, хотя почта, где она работает, закрывается в семь часов. Вот и наведывается отец к нам чуть ли не каждый вечер – тоскливо ему одному дома сидеть. А для мамы он всё такой же, каким и был – удалой джигит, сильный, красивый, который всем на удивление выбрал её – осчастливил сироту-бесприданницу. Седого, сникшего, словно подстреленного Хизгила мама видит взором памяти – лихим наездником, танцором".
На время летних каникул Тайло устроилась воспитательницей в старшую группу детского сада. Работа с детьми засчитывается в институте как педагогическая практика. Будущая учительница вглядывалась в глаза детей и, не сознавая того, наделяла их своими детскими ожиданиями, когда казалось, что должно случиться что-то необычное, чудесное. Жизнь станет праздником. Не женится любимый на другой, и не придётся решать непосильной задачи – выстроить свою судьбу независимо от сложившихся обстоятельств.
В детях угадывался характер. Подвижная смышлёная девочка из русской семьи непременно хочет быть в центре внимания, в противном случае она спешит напомнить о себе – кричит, дразнится, отбирает игрушки. Как только не задирает Люда флегматичного Равиля, чтобы тот взял её строить башню из песка! Мальчик молча с опаской оглядывается и продолжает свое дело – ему не нужны компаньоны. Люда страдает, не в силах вынести пренебрежение, подскакивает и начинает топтать ногами песочные бастионы. Равиль ревёт, а воспитательница не знает, что делать; если девочку наказать, та закатит истерику. "Лучше её не трогать, – решает Тайло, – да она и сама испугалась своего злодейства – притихла". Воспитательница ошиблась, Люда замыслила ещё большее коварство – во время тихого часа подговорила самого шкодливого мальчика в группе помочь ей привязать Равиля к стулу, а потом стала его целовать. Тайло прибежала на отчаянный крик жертвы насилия. На следующий день возмущённую маму пострадавшего удалось успокоить заверениями, что такого больше никогда не повторится.
– Я всё равно сломаю его крепость, – прошептала неуёмная Люда, искоса глядя на увлечённого строителя песочных замков.
– Зато ты хорошо танцуешь, – стала уговаривать её Тайло.
– Лучше всех?!
– Если будешь стараться, получится лучше всех.
– Тогда почему он со мной не играет?! Смотри! – девочка запрыгала в дикарском танце. – Смотрите все! Смотрите на меня!
Дети удивлённо подняли глаза, некоторое время стояли молча, затем снова занялись каждый своим делом: кто продолжал раскачиваться на качелях, кто пыхтел, изображая паровоз.
Увидев, как девочка побледнела, Тайло поспешила увести её. Только и успела погладить по голове, как та забилась в истерике.
– Ну что ты? Что с тобой? Ничего же не случилось. Что ты хочешь? Скажи... – воспитательница не в силах была найти подходящие случаю слова.
– Я хочу… Я хочу… – рыдала Люда, – я хочу, чтобы меня любили!
– И я хочу, чтобы меня любили, – неожиданно для себя проговорила Тайло.
Девочка замерла от такого признания, отчаянье в её глазах сменилось интересом.
– А тебя не любят?
– Нет.
– Никто не любит?
– Мама любит.
– Это не считается, меня тоже мама любит, и папа, и дедушка, и бабушка. Хорошо, что у меня нет брата, и сестры нет, все любят только меня.
– А ты кого любишь?
– Не знаю. Я ещё не выбрала.
– Когда выберешь, скажи мне. А сейчас пойдём, умоемся.
Избалованная Люда требовала к себе постоянного внимания, а худенький, маленький для своих лет Ашир ужасно смущался, когда обращались к нему. Знать бы, как защитить этого пугливого мальчика, помочь ему.
Трудно работать с детьми, нужно расщепить свою душу на всех, вжиться в каждого. Зато бывают и радостные минуты, будто солнечным днём идёшь по искрящемуся, бурлящему вокруг тебя горному ручью и различаешь под ногами в прозрачной воде разноцветные камушки.
Из окна ставшего привычным поезда дальнего следования, к которому в Дербенте цепляют два вагона до Москвы, видится двугорбый потухший вулкан, его подземная жизнь сейчас никого не беспокоит. Когда-то давно он был молодым, огнедышащим, в те времена ещё не строили защитных стен города. Сейчас и до уходящей в море древней стены никому нет дела – защищаться не от кого. Волны вымывают свинец, которым скреплены огромные камни. Мальчишки ныряют, ищут на дне кусочки свинца и делают из них грузила для удочек. Непредсказуемо море, то оно тихое, податливое, а то свирепеет – вздыбленные волны обрушиваются на берег и уносят с собой всё, что не может удержаться. Приезжий, незнакомый с коварством моря человек, вошёл с мальчиком в воду; волна накрыла их с головой, а когда отхлынула – мальчика не было. Человек тот кричал, звал на помощь, но стоящим в отдалении людям только и оставалось, что быть свидетелями случившегося. Страх перед надвигающейся волной заставляет отойти подальше, он же, этот страх, вызывает безотчётное желание броситься во всепобеждающую стихию, раствориться в ней.
Под перестук колёс мысли девушки возвращались к новому знакомому, с которым встретилась незадолго до каникул. Она увидела Сергея, когда тот на общеинститутском собрании в актовом зале шёл между рядами стульев – искал свободное место. Высокий, медлительный он напомнил ей Гочи. Свободное место нашлось впереди во втором ряду. Теперь были видны только его русый затылок и обтянутые серым свитером плечи. Этот, почему-то показавшийся знакомым человек, стал оглядываться. Тайло вспомнила, как первый раз придя в школу, она самозабвенно смотрела на огненно-рыжую Софико, и та из всех детей выбрала её – с ней села за одну парту. Вот и внимание Гочи она притянула своим интересом к нему, с ней одной он делился мыслями о необходимости выделить то общее, что присуще истории цивилизации всех народов. По сути, они хотели найти одно и то же – некую закономерность развития мира: он – на примере истории, она – с помощью математики.
На общеинститутском собрании Тайло снова посмотрела в затылок Сергея – и он оглянулся. Эксперимент страшил: одно дело Софико, другое – неизвестный взрослый человек. "Нужно отвлечься, думать о чём-нибудь другом, – решила девушка и отвела взгляд от красивого разворота плеч сидящего впереди мужчины. – Представить бы что-нибудь замечательное, не слушать же бесконечные речи на перевыборном профсоюзном собрании, явка на которое строго обязательна". Мысли обратились к дому, вспомнилась уличная кошка, которая залезла к ним под сарай и там окотилась. Сначала она осторожно выползала из своего укрытия, потом осмелела и вывела с собой котят. Беспомощные, они то и дело опрокидывались на спинку, пищали, снова карабкались в траве. Самый красивый – дымчатый с белой мордочкой и грудкой, задрав головку, смотрел на присевшую на корточках Тайло, будто почувствовал – она его выделила из всех остальных. Удивительно, как у такой беспородной темно-бурой кошки мог родиться такой красивый светлый котёнок. Спустя несколько дней, он, в отличие от своих братьев и сестёр, не спешил к миске с молоком, а сидел в стороне и, склонив головку набок, смотрел на ту, которая его полюбила с первого взгляда. Знал: голодным она его не оставит.
К концу лета котята подросли и ушли со двора, исчезла и кошка, а дымчатый котёнок остался. Так и живёт под сараем, иногда уходит на день-другой по своим кошачьим делам, потом возвращается. И как он, ещё совсем крохотный, мог почувствовать приязнь к себе?
Тайло посмотрела в спину Сергея, и тот, оглянувшись, наткнулся на её взгляд. В этот момент она забыла о комплексе провинциалки, недавно укоротившей платье, не вспомнила и о стыдливости не поднимающих глаз дагестанских женщин. Когда объявили перерыв, вышла из актового зала и остановилась чуть ли не у самых створок дверей – теперь-то уж он точно не минует её. Стояла и ждала, мучаясь стыдом и невозможностью найти в себе силы сдвинуться с места и уйти. Он, увидев её, приостановился, будто о чём-то раздумывал, и в следующее мгновенье решительно подошёл:
– Ну, уж коли так, давайте знакомиться.
– Я… я вас не знаю, – лепетала вконец смутившаяся девушка.
– А что, всех остальных вы знаете?
– Нет, но… видела, примелькались в институте.
– Меня вы не могли видеть, я только сегодня устроился внештатным сотрудником на географический факультет.
– Будете читать лекции?!
– Чему вы удивляетесь?
– Вы… Я вас представляю не на кафедре, а в горах, в лесу с рюкзаком и заступом.
– Странно, как вы могли так сразу вычислить меня, я и в самом деле геолог, поеду со студентами на летнюю практику в поле, в тайгу. Маршруты случаются разные. География – это не только водить указкой по карте, но и умение прочитать рельеф, почувствовать землю под ногами. Ну, а вы чем занимаетесь? Я ведь не такой догадливый.
– Я? – Тайло понимала, нужно сказать что-нибудь значительное, иначе он вежливо улыбнётся и уйдёт. Но что? Всё, что раньше казалось важным, стало будничным, неинтересным. – Я буду учить детей математике.
– Это серьёзно, но почему вы выбрали математику, а не литературу, например? У вас внешность гуманитарного человека.
– Никак не расстанусь с детской мечтой вычислить математическую формулу закона мироздания, – беспомощно улыбнулась девушка.
– Такая мечта за пределами моего понимания. А в вашей формуле останется место свободе? Свободе выбора.
– Конечно, ведь свобода – проявление души, а душа у всех разная. Вот и выбираем – каждый своё.
– Вы пришли к такому выводу, слушая лекции по историческому и диалектическому материализму? – усмехнулся геолог.
– Нет, экспериментирую на себе. У меня был замечательный учитель в школе, он говорил о том же. Я повторяю его слова...
– Трудная у вас задача. В геологии проще, по конкретным признакам строения ландшафта вычисляем, где искать нефть, а где – золото. Мне как внештатному сотруднику не обязательно сидеть ещё и на второй половине собрания. До свиданья, желаю удачи. Встретимся как-нибудь.
– Всего доброго, – проговорила Тайло.
Спустя несколько дней они чуть ли не столкнулись в институтском коридоре.
– Здравствуйте! Вот вы-то мне и нужны, ваша проницательность поможет выбрать маршрут. Кстати, как вас зовут?
– Тайло, – произнесла девушка и, помолчав, добавила, – Хизгиловна.
– Сложно-то как, а я просто Сергей. Меня, значит, вы уже зачислили в свои ученики, раз представляетесь по отчеству.
Они засмеялись и, не заметив, пошли рядом. Оказались в институтской столовой.
– Самое трудное, – говорил Сергей, – выбрать маршрут. Можно на север, можно на юг, или отправиться с группой студентов за Кавказский хребет. Кстати, вы не из тех ли мест?
– Я из Дагестана, Дербента. "Дербент" ─ персидское слово, означающее замкнутые ворота – замкнутость людей в замкнутом пространстве – в прямом и переносном смысле.
– Прекрасно! Вот и расскажите о ваших достопримечательностях, ведь у вас и горы, и море; такое не часто встречается.
– Есть и долины с виноградниками.
– Я слышал, город у вас древний...
– Да, археологи находят доисторические становища, но настоящая цивилизация началась две с половиной тысячи лет назад.
Тайло хотела добавить, что две с половиной тысячи лет назад был разрушен первый Храм в Иерусалиме и евреи двинулись на Кавказ. Но об этом промолчала.
– Что вы называете настоящей цивилизацией? – в нетерпении спросил собеседник.
Девушка начала рассказывать о крепостной стене, построенной, согласно истории края, именно в это время. Заикнулась было о старинном кладбище на горе, где, словно растопыренные пальцы ладони, торчат вкривь и вкось заросшие мхом камни с еврейскими буквами. Однако спохватилась, вспомнила внезапную ярость сирийца Фарука, когда тот узнал, что она еврейка.
– Что же вы замолчали? Так интересно начали. А ещё чем замечательны ваши места?
– Ещё интересно наблюдать смену цветов в долинах с виноградниками; в утренней дымке, когда только рассветает, они кажутся бледно-сиреневыми, днём, под жарким солнцем, их цвет густеет, а вечером становятся цветом ночи. К осени краснеют. И вершины гор тоже разного цвета…
– Замечательно! Я уже вижу ваш благословенный край. Окружённая горами долина, море, солнце, вино!
– Но у вас есть ещё и другие варианты: послушаете северянина и решите ехать в Якутию, в край алмазов.
– Север я уже объездил вдоль и поперёк. В Москве живу всего лишь два-три месяца в году, остальное время – в геологических экспедициях. Последний раз был недалеко от Хабаровска. Представляете, в тех краях нашли и платину, и золото, и вольфрам. А какая рыба водится в Амуре! А лес! Чего и кого только нет в том лесу! Красота необыкновенная!
– Вот бы побывать там, – вздохнула Тайло.
– Нет ничего проще. Присоединяйтесь к геологам, географам, и вперёд!
Снова девушка не заметила, как они вышли из столовой и оказались в сквере. Покинуло чувство бесприютности в чужом городе, а в голосе едва знакомого человека послышался напев родных мест – шелест ручья по каменистому руслу. Можно выбрать север, а можно юг – везде с ним будет хорошо.
– А сейчас как вы меня представляете? – неожиданно серьёзно спросил Сергей.
– Сейчас вы ловите неводом рыбу…
– А вы в шкуре убитого мною зверя разводите огонь в очаге. И нам хорошо вдвоём.
– Хорошо... – хотела сказать Тайло, но промолчала.
Они шли по весеннему скверу, едва касаясь друг друга, и казалось – никогда не отцветёт только что распустившаяся сирень, не запылится молодая яркая зелень и не исчезнет райский запах недавно проклюнувшихся клейких тополиных листочков.
– Я с вами забыл обо всём! – спохватился Сергей. – Мне давно нужно быть дома. Мы ведь ещё встретимся, правда?
– Встретимся, – стараясь казаться равнодушной, подтвердила девушка. Она поняла: он женат. "А со мной просто так разговаривал. И я просто так. Здесь не кавказские нравы, не запрещается говорить с посторонними мужчинами".
В следующие дни ноги сами несли на третий этаж, где, пройдя мимо кафедры географии, можно увидеть Сергея; если он и появится в институте, то только там.
– Привет! Сто лет тебя не видела! – обрадовалась Жозефина встрече. Она уже получила диплом и осталась работать на своей географической кафедре ассистентом. – Почему не заходишь?
– В сентябре привезу из дома что-нибудь вкусное и зайду.
– Опять дыню?! – засмеялась Жозефина. – Ты мне уже четыре дыни привезла. На пятом курсе, значит, будет последняя. Слушай! У нас сегодня в три часа заседание кафедры. Приходи! Может, появится в твоей серьёзной голове идея для моей диссертации. Ведь наши задачи сходные: ты должна пробуждать в учениках любовь к математике, а я – к географии. Здесь главное понять, отчего возникает интерес к предмету.
– Приду. Не уверена, что сумею помочь, но приду.
– Спасибо. В три часа, не забудь.
Первым, кого увидела Тайло, когда пришла на заседание чужой кафедры, был Сергей.
– И вы здесь!? – удивился он.
– Это я пригласила, – подошла Жозефина. – А вы, я вижу, знакомы.
– Знакомы, – заговорщицки улыбнулся Сергей.
– Каким образом?!
– Случайно. Шёл мимо и вот, притормозил.
Аудитория быстро заполнялась преподавателями, студентами. Первым выступал зав кафедрой – немногословный рано поседевший человек. Он кратко обозначил проблему практического освоения теоретических знаний географии. Из его слов следовало, что студенты – будущие учителя – своей любовью к предмету, живым критическим умом должны пробудить у школьников интерес и творческий подход к изучаемому материалу. «География, – говорил зав кафедрой, – расширяется вглубь и вширь, некоторые наши выпускники стали топографами, океанологами, геологами". Затем выступали преподаватели, высказывали свои пожелания студенты.
Дали слово Сергею. Он рассказывал о взаимосвязи географии с геологией: "Здесь не только романтику нужно искать, но и развивать научное мышление. Для нас остаётся тайной, чем руководствуются школьники, выбирая ту или иную специальность". Сергей замолчал, словно раздумывал о чём-то, затем неожиданно для всех предложил: "Среди нас присутствует студентка математического факультета, выбор которой совершенно осознан. Давайте послушаем, как это делается".
Тайло растерялась: именно об этом спросил её Сергей при первой встрече. Вот уж не думала, что отвечать придётся перед целым собранием.
– Пожалуйста, просим, – пригласил к председательскому столу зав кафедрой.
Тайло встала, в голове у неё крутилась всего лишь одна фраза её учителя: "Математика – это мысль Бога о мире". Ничего другого на ум не приходило. К Богу, Элохиму, Адонаю обращались евреи Дербента несколько раз в день, здесь же это было неуместно. И всё-таки слова выговорились сами собой. Спасла всплывшая в памяти ссылка Григория Николаевича на Фарадея, и цитата признанного физика прозвучала вполне легально. Тем более что Тайло пояснила:
– Фарадей под Богом подразумевал всеобщий Закон, порядок. Вот и я мечтаю найти в математике закон, закономерность происходящего – то, что противостоит случайности. Мы ведь сначала ставим перед собой задачу, то есть, знаем, вернее, предчувствуем то, что хотим найти, а потом ищем решение в качестве конечного результата, формулы…
– Интуитивно поставленная задача предшествует опыту, практическому подтверждению, – пришёл на помощь Сергей.
– Вы хотите сказать, что ваша интуиция важнее логического доказательства? – вкрадчиво спросил гладко причёсанный и застёгнутый на все пуговицы, словно зачехлённый человек со строго официальным выражением лица. – Мы так и до мистики докатимся.
– Интуиция предваряет научные знания, – заметил Сергей.
Воодушевлённая его поддержкой, Тайло продолжала:
– Мой учитель в школе часто повторял слова Спинозы: "Порядок и связь идей те же, что порядок и связь вещей". Под идеями он подразумевал числа, формулы. Число – принцип всеобщих космических связей. Представления, предварительные допущения воплощаются в аксиомы, с помощью которых мы находим обоснование происходящему. Это не мои слова, но я тоже…я тоже так думаю.
– Вы правы, совершенно правы, – неожиданно согласился зав кафедрой, – из любого научного исследования не может быть исключено знание, основывающееся на интуиции, предощущении.
И далее, обращаясь к собранию, он продолжал:
– Наша гостья, как я понял, определилась в своём выборе благодаря преподавателю. Вот вам, уважаемые коллеги, подтверждение значимости учителя в развитии интеллекта молодёжи.
– И что же, ваш учитель до сих пор работает? – спросил казавшийся бесстрастным, застегнутый на все пуговицы до самого подбородка эксперт.
– Нет,… он умер.
– А вы, значит, подхватили его идеи. Мы ведь так и до Бога договоримся, – мрачно изрёк оппонент.
– Ну уж, это по вашей части, – усмехнулся зав кафедрой, – вы ведёте курс атеизма. А что касается методики преподавания, хочу обратить ваше внимание на учителей старой школы: они более широко использовали накопленные человечеством знания и историю науки – в частности. Разбудить творческую мысль студентов – вот наша задача.
– Вы сегодня карьеру сделали, – подошёл к Тайло Сергей, когда все стали расходиться.
– В каком смысле?
– Теперь вам прямая дорога в аспирантуру.
– Думаете, меня возьмут?
– Кого же брать, если не вас? Пойдём куда-нибудь, отметим ваш дебют.
– Подождите, и я с вами, – откликнулась Жозефина, – вот только на кафедру забегу, бумаги оставлю.
– Мы в пельменную, что за углом. Подходит тебе такой вариант?
– И я туда же.
Расположились за столиком у окна. Тайло сидела рядом с Сергеем, почти касаясь его плеча. Так бы и сидела всегда, вслушиваясь в вибрацию его голоса, и не важно, о чём говорит. Было предчувствие неотвратимой близости.
Подошёл официант.
– Три порции пельменей, – заказал Сергей.
– И три чая, – добавила Жозефина. – Вообще-то мы с подружкой ещё бы и пирожное съели, но не хочется разорять семейного человека.
Тайло замерла, не в силах перевести дыхание. Потом отпустило, но в груди застрял сгусток недоумения, боли.
– Был семейным, – заметил Сергей.
– То есть как? Неужели развёлся?!
– Пока нет, но…
– Не слушай, подружка, это он так, лапшу на уши вешает. Мужики, они такие – зыркают по сторонам, может, где обломится.
– Полигамные, – подсказал Сергей.
То было третье и последнее свидание перед летними каникулами. Тайло больше не искала повода пройти мимо кафедры географии. "Забыть! Выбросить из головы!" – твердила она себе всё лето. Но перед глазами всплывали внимательные глаза Сергея, красивый разворот его плеч. И надежда оказывалась сильнее здравого смысла: "Может, и вправду собирается разводиться".
Все вопросы, сомнения отпали, когда они поздней осенью снова оказались друг против друга в институтском коридоре. Он подошёл совсем близко, заглянул в глаза, и не нужно было ни о чём спрашивать. Так тает снег и набирают силу вешние воды. Они стали встречаться – ходить в кино, целоваться в подъездах.
Сергей уже не спешил домой, и Тайло думала – не сегодня-завтра он позовёт её замуж. Вот только мучила совесть – не из-за неё ли он оставил семью?
– Ты тут ни при чём, – ответил Сергей на её сомнения, имеет ли она право быть с ним, – я бы и так ушёл. Только уходить некуда.
– А где ты раньше жил?
– Раньше… – Сергей запнулся, ─ раньше в Хабаровске. Работал после школы в геологической экспедиции. Там и познакомились. Мне было семнадцать лет, ей – двадцать три.
– Как звать твою жену?
– Галя. Зачем тебе?
– Так ведь мы с ней вроде как родственницы. Значит, Галя и привезла тебя в Москву.
– Положим, так. И что из того? С тех пор прошло тринадцать лет.
– А теперь ты собираешься уходить.
– По-твоему, я должен всю жизнь расплачиваться за московскую прописку? Короче, ты поедешь со мной в экспедицию?
– Поеду. А жить потом ты согласен со мной в Дербенте?
– Потом что-нибудь придумаем. Не нужно об этом говорить. Ты ведь меня любишь, вот и не задавай вопросов.
За неделю до тридцать первого декабря Сергей пригласил Тайло в общежитие университета на Ленинских горах встречать Новый год. "Там, – сказал он, – живёт мой друг, аспирант геологического факультета".
"Значит, и вправду разводится, – решила девушка, – Новый год семейный праздник, не мог бы он уйти из дому просто так". Всю неделю она убеждала себя, что всё образуется, всё хорошо, а жить, если он не захочет в Дербенте, можно где угодно.
С трепетом и ликованием вошла Тайло в храм науки – в высотное здание университета, где на последних этажах были комнаты общежития.
– Ну что ты остановилась, пойдём, – тормошил Сергей.
Провинциалка, за четыре года так и не почувствовавшая себя столичной жительницей, с восторгом оглядывала великолепие огромного вестибюля с высоченными гранитными колоннами и золотой лепниной на потолке.
– Ну же, пойдём, нас ждут.
Лифт, как джинн из восточной сказки, в одно мгновенье поднял их на двадцатый этаж, где полумрак обшитых тёмным деревом стен казался особенно значительным – здесь гении творят науку.
В одной из комнат их ждал уставленный дорогими винами и фруктами стол. Друг Сергея растерялся, увидев его с Тайло, очень уж она не походила на женщину, которую приводят на одну ночь. Он как-то сразу опустил лицо, замкнулся и всем своим видом показывал: я здесь ни при чём. С боем кремлёвских курантов подняли бокалы. "Пусть будет так, как должно быть!" – провозгласил тост Сергей. Все выпили – двое взрослых мужчин и захмелевшая после первой же рюмки девочка. Она пыталась понять, что имел в виду Сергей, когда говорил свой тост: "Пусть будет так, как должно быть". А как должно быть? Мысли разбегались, путались. Через несколько минут хозяин незаметно исчез. "У нас тоже накануне свадьбы молодых оставляют в комнате одних, – вспомнила Тайло, – они милуются до утра, но ничего лишнего себе не позволяют. В соседней комнате сидит мать или какая-нибудь родственница – прислушивается. После брачной ночи вынесут перед гостями белый платок невесты, и не дай Бог, если на нём не окажется девственной крови. Позор на всю семью, никто не станет сватать её сестёр, а родившегося ребёнка объявят мамзером".
– Дикарка, – злился Сергей, когда девушка позволила расстегнуть ей кофточку, погладить ноги, но не пустила его руку дальше, – мы же вдвоём, и я с тобой.
"Здесь всё по-другому, здесь всё можно, – убеждала себя Тайло, – девочки в общежитии давно ночуют кто где. Пусть будет, как он хочет. Но ведь он не говорил, что женится. А зачем говорить, это само собой разумеется, иначе он бы сейчас не был со мной".
– Нет, не могу. Потом. Не сейчас. Не надо.
– Когда? Скажи когда?! – свирепел Сергей. – Я же не стесняюсь тебя, разделся. Я хочу снять с тебя всё. Нам будет хорошо, вот увидишь. Расслабься же, наконец. Я не могу так!
Он корчился на постели, а девушка не понимала, что с ним происходит.
– И всё потому, что ты не любишь меня.
Тайло захотела доказать свою любовь и уж было отпустила тормоза, но следующие слова домогавшегося её мужчины заставили снова сжать колени.
– Когда-то же нужно начинать!
"Значит, он не собирается быть со мной всегда".
Злой, уставший в бесплодной борьбе Сергей поднялся и начал одеваться.
– Я не могу так, – оправдывалась Тайло. – У нас так не делается. Мы поедем после зимней сессии в экспедицию. Вот тогда…
– Почему тогда, а не сейчас? – мрачно спросил Сергей.
– Тогда мы будем вместе не только ночью, но и днём.
Про себя же подумала: "Что будет со мной, если рожу ребёнка без мужа? Отец, в отличие от мусульман, не убьёт меня, но зачем такой позор на его седую голову. А мама – что будет с ней? Конечно, она меня не бросит. Окажется, не зря все вокруг только и говорили, что я уехала в Москву, чтобы вести разгульную жизнь. И не зря сторонились меня женщины, сыновьям которых пришло время жениться, любую сосватают, только не меня. А ребёнок, чем он виноват, что ждёт его у нас – незаконнорожденного?
"Папа, – писала Тайло отцу, – у меня есть жених, я выхожу замуж". Потом добавила слово "наверное", раздумала и начала писать снова без "наверное" – или девушка выходит замуж или не выходит. "Он геолог, в конце января мы уезжаем с ним в экспедицию на Дальний Север. Правда, он ещё не развёлся с женой, но это не имеет значения, как муж и жена они не живут…". То было даже не письмо, а записка – мольба о прощении, ожидание согласия, благословения.
Отец приехал сразу, как только получил письмо. В кавказской папахе и овечьем зипуне он сидел рядом с тётей Пашей, вахтёршей общежития, ждал дочку из института.
– Что-нибудь случилось? – испугалась Тайло неожиданного визита.
– Это у тебя случилось, ─ сурово проговорил Хизгил.
Тайло взяла у вахтёрши ключ, и они с отцом направились в конец длинного тёмного коридора, где рядом с туалетом была её комната. Отец помедлил возле распахнувшейся перед ним дверью. Перешагнул порог, оглядел стоящие почти впритык друг к другу кровати и тяжело опустился на стул.
– Как вы живёте в такой тесноте?
– Живём. Не ссоримся. У каждого своя забота. Иногда вместе ужинаем, делимся припасами.
– Я тебе кое-что привёз, чемодан у вашей дежурной забыл. Пойду, принесу.
– Сиди, сиди, ты с дороги, устал. Я сама.
– Батюшка твой? – неожиданно ласковым голосом спросила обычно неприветливая тётя Паша.
– Мой.
– Значит, навестить приехал. Проведать тебя. Это хорошо. Я ему ключ от кладовки кастелянши дам, там раскладушка есть, заночует, небось. Видный мужчина. Ещё в силе, по всему видать…, красивый.
– Красивый, – подтвердила Тайло, подхватила чемодан и поспешила к отцу.
– Он русский? – спросил Хизгил, как только дочка появилась в дверях.
– Русский. Но ведь и ты привёз русскую жену.
– Привёз…, – вздохнул отец. – Ну что ж, если всё по-хорошему, то ведь ты не сирота, свадьбу сыграем, я деньги кой-какие скопил.
– Папочка, какая свадьба, здесь так не принято.
– У нас принято. Приедете и сыграем. А то как я людям буду в глаза смотреть? Скажут, Хизгил совсем ума лишился, единственную дочку без приданого отдал.
– Спасибо. Только не нужно мне ничего.
– Нужно! Пока молодые, всё нужно. Это потом, в старости, мало чего человеку требуется. – Отец замолчал и как бы между прочим добавил: – Знаешь, всякое в жизни бывает, если окажется, твой геолог не собирается разводиться и всё у него в семье по-прежнему, как и было, обещай мне, что не будешь больше с ним встречаться.
– Как ты можешь такое говорить! Ты его не видел ни разу и уже считаешь обманщиком?!
– Увижу… – отец снял наконец свой зипун.
– А где живёт твой жених? – спросил он, распаковывая чемодан. Тут же запахло сушёными фруктами, овечьим сыром – запахло домом.
– В Москве живёт.
– А адрес ты его знаешь?
– Не знаю. Зачем мне?
– Ну, а фамилию, отчество? Сколько ему лет?
– Фамилия Окунев, ему тридцать лет. Но какое это имеет значение? Давай лучше я тебя на Красную площадь свожу, ты же в Москве никогда не был.
– Ладно. Только ты с утра отправляйся в свой институт, у меня тут кой-какие дела есть, а после сходим.
На следующий день отец позвал Тайло навестить его приятеля, которого он разыскал в Москве. И они отправились на поиски адреса, указанного на квитанции справочного бюро. Там же стояла цена за справку – двадцать копеек. Отец шёл впереди, словно, не она водила своего гостя по Москве, а он – в калошах поверх кожаных сапог, в каракулевой папахе – указывал ей дорогу.
– Доченька, давай в магазин зайдём, я тебе башмаки крепкие куплю, а то твои совсем негодные, ноги промочишь. Ты скажи, что нужно.
Тайло почувствовала себя маленькой девочкой, как в тот день, когда отец устроил ей праздник – взял с собой в центр города. Тогда он купил ей кожаные туфли, только они были малы и пришлось их продать соседской девочке Зульфе. В тот день они ходили в кино, гуляли по городу, и все видели, что у неё есть папа. Хизгил тогда ступал легко, будто в танце, едва касаясь земли. Сейчас – грузный, поседевший, он неловко двигается среди густой столичной толпы и почему-то смотрит на неё с сочувствием, жалостью.
– Ты не переживай… – говорит он.
– Папа, ты о чём? Ты ведь сам когда-то говорил, что если бы начинал жизнь сначала – поехал бы учиться, и тебе тоже пришлось бы жить в общежитии.
Уже стемнело, когда они поднимались по стёртым ступеням едва освещённой лестницы старого московского дома на Большой Спасской улице, которая почти вся была из таких осевших в землю двухэтажных домов. Бывшие купеческие постройки; первый этаж – кирпичный, второй – деревянный. После двух пролётов щербатой лестницы отец постучал в обшитую рваным войлоком дверь. Долго не открывали. Наконец, в замке повернули ключ, дверь открылась, и Тайло увидела Сергея…
Он от неожиданности тоже растерялся, первым непроизвольным движением хотел загородить собой вход. Хизгил хозяйским жестом отстранил его. Миновав заставленный сундуками, корытами, шкафами коридор многонаселённой квартиры, непрошеные гости вошли в комнату. Следуя за отцом, Тайло натолкнулась на высокую, черноглазую, по-цыгански красивую женщину. Та бросила на неё пренебрежительный взгляд и отвернулась. Далее последовала немая сцена. Сергей, привалившись к косяку двери, неподвижно стоял до конца неожиданного визита; казалось, у него не было сил сдвинуться с места. Жена и тёща тоже молчали. Хизгил, оглядевшись, устроился на диване и усадил рядом дочку. Та поняла – отец приходил сюда утром, когда Сергея не было дома. Светловолосый мальчик с такими же, как у Сергея, серыми глазами, не понимал, что происходит. Он стоял посреди комнаты и переводил взгляд с одного участника немой сцены на другого. Потом почему-то подошёл к Тайло и протянул ей свою игрушку – резиновую козу.
Визит продолжался несколько минут. На все вопросы Хизгила жена Сергея отвечала одним словом "да".
– Вы живёте как муж и жена?
– Да.
– У вас всё, как и прежде?
– Да.
– Вместе собираетесь ехать в экспедицию?
– Да.
– Всё ясно, – сказал Хизгил и поднялся.
Тайло тоже поднялась, и тут из её подола посыпались на пол резиновые ошмётки козы – не заметила, как разорвала.
Так и не сдвинувшийся с места Сергей только и сказал: "Разбитого не склеишь". Тайло решила, что этими словами он хотел оставить у неё надежду на встречи, мол, всё равно у них с женой ничего не склеится.
Письмо его, которое на следующий день лежало на столе у вахтёрши общежития, она хотела разорвать, не читая, но не хватило решимости. "А вдруг… Что может случиться вдруг?" Сергей назначал ей свиданье. "Зачем? Будет оправдываться, но мне не нужны его оправдания, да и ему тоже". При этом Тайло удивлялась тому, что страдания оказались вполне терпимыми по сравнению с бедой при известии о женитьбе Гочи. Тогда нечем было дышать, как у ныряльщика на большой глубине – хватило бы сил вынырнуть на поверхность. Сейчас же возвращённая свобода представлялась возможностью плыть дальше, только плыть было некуда.
"Число – структура и гармония мира", – вспоминала Тайло слова старого учителя. Тогда из своего детского одиночества она услышала одинокую душу Григория Николаевича, в его словах пыталась отыскать тайну своего появления на свет и всего происходящего вокруг. "Из чисел состоит космос и душа человека. Но пифагорейцы, видевшие в числе ключ к познанию, не объясняли неотвратимости желаний и всего происходящего с нами… Я сама во всём виновата, не было у Сергея права уходить из семьи, сама обратила на себя его внимание; он подошёл, потому что я хотела этого. Значит, не только множество случайностей может сомкнуться в единстве нашей встречи, но и единство – стремление может развернуться во множестве ситуаций". Все эти абстрактные рассуждения не наполняли душу, хотелось живого участия, любви. И, как шестилетней девочке летом в детском саду, хотелось кричать: "Хочу, чтобы меня любили!"
После расставания с Сергеем в общежитии казалось особенно неприютно. Грустно было возвращаться в пустую комнату и для одной себя жарить котлеты. На последнем курсе перед распределением все спешили устроить свою жизнь, дома бывали редко. Раньше Лида из Вологды, суетливая, говорливая девушка, чаще других делила ужин с Тайло. Она мельтешила, кстати и некстати старалась угодить, спешила поменять у кастелянши бельё, хотя в этом не было никакой необходимости. Долго повествовала о том, в каком магазине нужно покупать творог, а в каком – колбасу. При этом требовала ответного участия во всех бытовых подробностях и зряшных пустых разговорах. Когда её назойливость становилась нестерпимой, Тайло раздражалась, соседка ослабевала хватку, но спустя несколько дней наступала на свою жертву с новой силой и неуклюжей изобретательностью.
Реже всех бывала в комнате молчаливая красавица Алина, будто с нарисованным лицом: большие синие глаза, крутой изгиб бровей, прямой нос, чётко очерченные губы. Училась Алина серьёзно, но без вдохновения. На вопрос, почему выбрала исторический факультет, ответила: "У меня хорошая память – посмотрю на хронологическую таблицу, и отпечатаются в голове все даты". Запомнить Алине легче, чем понять причины и следствия исторических событий.
Общей приязнью пользовалась плотная, стриженная под мальчика Вика с химического факультета. Доброжелательная, неглупая, она умела держать на расстоянии липнувшую ко всем Лидку. С ней с одной шепталась красавица Алина, искала её дружбы и Тайло. Из всех девочек в комнате у Вики были самые интеллигентные родители – папа играл на скрипке, а мама преподавала в школе русский язык и литературу. О своём башкирском городе Уфе Вика говорила с ненавистью, рассказывала, в каких ужасных условиях живут там люди.
– Что-то ты в последние дни скисла, ─ обратилась она к Тайло. ─ Что-нибудь случилось?
– Да нет, всё то же, что и было, – пожала та плечами.
– Главное, не делать трагедии, – продолжала Вика, – я не говорю, что к жизни нужно относиться легко, но бывают ситуации, когда от тебя мало что зависит. У меня такое случалось – думаешь одно, а получается совсем другое. Тебе нужно отвлечься. Хочешь, пойдём завтра…
– Пойдём, – не дослушав, перебила Тайло, – всё равно куда и к кому.
– Не всё равно, мы пойдём в дом потомственного интеллигента, искусствоведа, квартира – сплошной антиквариат.
В следующий вечер девочки, преодолевая напор холодной февральской вьюги, шли к метро.
– Давай вернёмся, и ты оденешься потеплей, – уговаривала Тайло спутницу.
– Мне не холодно, московские холода ─ пустяк по сравнению с нашими морозами.
Тайло невольно представляла состояние Вики – у той под лёгким пальто было всего лишь шелковое платье с большим декольте.
В метро девочки оттаяли, а уж когда оказались в просторной с высокими потолками квартире писательского дома у метро Новокузнецкая, вмиг забыли про окоченевшие в капроновых чулках ноги и пробирающий до костей ветер. Вика царственным жестом сбросила пальто открывшему им дверь высокому породистому блондину. В ослепительно роскошной квартире хорошо смотрелась её полная красивая шея в глубоком вырезе синего облегающего платья.
– Девочки пришли! – оповестил своих гостей хозяин.
В комнате за столом под огромной бронзовой люстрой сидели двое мужчин, давно миновавших студенческий возраст. Они едва кивнули вошедшим и продолжали прерванный разговор. Тайло чуть ли не на цыпочках прошла в дальний угол комнаты и устроилась в глубоком, уютном кресле. Вика была здесь не в первый раз, она подсела к гостям, явно не довольствуясь ролью слушательницы непонятного разговора, в котором мелькали незнакомые слова: "импрессионизм», «символизм», «экспрессия". Своего бессловесного присутствия Тайло не смущалась; чувствовала себя вполне комфортно – ей не привыкать к молчанию женщины при разговоре незнакомых мужчин. Она оглядывала картины на стенах, сравнивала их с теми, которые видела в Третьяковской галерее. Здесь не было тщательно выписанных пейзажей, портретов; всего лишь наброски, штрихи. Контрастирующие с зелёным фоном кроваво-красные мазки портрета неизвестного художника вызывали чувство тревоги, смятения. Или, наоборот, всё серое и на фоне сливающегося с горизонтом серого неба – маленький, едва заметный контур потерянного в бесцветном пространстве путника. А вот – два растрепанных ветром дерева, как два человека, протягивают руки и не могут дотянуться друг до друга.
– Девочки, помогите нам разобраться, какой коньяк лучше – французский, армянский или краснодарский. – Хозяин широким жестом обвёл заставленный красивыми бутылками стол. – Итак, начали!
Разницу в выпитых трёх рюмках коньяка Тайло не поняла, но ощутила необыкновенную лёгкость, беззаботность. Уплыло в небытие её несостоявшееся замужество, исчезло постоянное сознание необходимости решать непосильную задачу – понять что-то самое главное, без чего жизнь не имеет смысла. Стало хорошо, боль призрачных надежд растаяла, как снег в кипятке. Неискушённая в земных радостях девушка отключилась – уснула. Исчезновение Вики с хозяином дома и вопрошающий взгляд лысеющего брюнета за столом – последнее, что мелькнуло в её затуманенной голове.
Проснулась в том же кресле, с которого начала визит, ещё и ещё раз оглядела картины на стенах, книги на иностранных языках, что стояли на стеллажах, как в библиотеке – от пола до потолка, нашла в прихожей своё пальто и вышла, тихонько прикрыв за собой дверь. Внизу в отгороженном закутке спала лифтёрша, даже не шелохнулась. Наверное её сторожевой инстинкт не срабатывал на уходящих; только – на входящих. В темноте к открытию метро шли, будто с похмелья, не проспавшиеся люди. "Вот и Гочи сейчас спешит на свой завод к началу первой смены. Какие у него были руки – тонкие длинные пальцы с едва выступающими суставами, казалось, предназначены только для того, чтобы листать книги. Сейчас у него руки дубильщика кожи. Ему бы появиться на свет в той квартире, где я только что была, с книгами на английском и французском языках. Я тоже могла родиться там…"
В первый раз Тайло ощутила гнетущее чувство зависти к людям, которые приобщены к культуре, знанию языков без большого труда – по наследству досталось. Немецкий язык на вступительных экзаменах она чуть было не завалила, еле-еле натянули тройку из-за хорошей оценки по математике, а может, пожалели. И это при том, что училась в русской школе, где иностранный был обязательным предметом. "Да, я завидую! Завидую хозяину книг и его друзьям. А ведь кто-то завидует мне, и так без конца. Может быть, смысл в том, что каждый приходит в этот мир, чтобы сделать свою работу. Мне приоткрывается только одна дверь – писать реферат и пытаться поступить в аспирантуру".
Нацеленность на аспирантуру освобождала от беспокойства по поводу распределения на работу, то есть в случае поступления давала возможность остаться в Москве ещё на три года. Рассудительная Вика с красавицей Алиной видели один способ зацепиться в столице – выйти замуж за москвича. Молчаливая Алина, когда шла на свиданье, плакала; она не любила своего толстого, рыхлого жениха, у которого едва сходились брюки на животе. Однако перед самым распределением собрала чемодан, сдала кастелянше белье и уехала к нему. На ватном полосатом матрасе её кровати осталось лежать сложенное вчетверо серое колючее одеяло и грязная, без наволочки, подушка. Вика тоже вышла замуж, привела в общежитие жениха, как бычка на верёвочке. Большой косноязычный Витя, чуть ли не с начальным образованием, был по-царски щедрым, он заваливал стол свёртками с осетриной, бужениной, дорогими конфетами.
– Главное, не спать с мужиком, пока он не поставит тебе штамп в паспорте, – наставляла Вика Тайло. – Мы только три дня как познакомились, а он уже жениться хочет.
– У нас, на Кавказе, тоже играют свадьбу, когда молодые едва знакомы, но за семью жениха, куда идёт жить невеста, ручается сваха.
– А если нет свахи?
– Ты говорила, тебя в Уфе ждёт мальчик, с которым в школе дружила. Не хочешь к нему?
Мысль о том, чтобы вернуться в свой город, была настолько нестерпима, что всегда сдержанная Вика закричала:
– Видела бы ты эту Уфу! В каких условиях живут там люди!
– Извини, не видела, но Витя…
– С Витей всё в порядке, – перебила Вика. – И мужик он что надо. Почувствовала, когда прижимал к себе, я в этих делах толк знаю. Женщины у него ещё не было. Это хорошо: чего не надо – не поймёт, а простыню с кровью девственницы здесь не выносят напоказ.
Тайло нарядила невесту в свою белую новую кофточку, Лидка, что липла ко всем подряд, дала надеть в ЗАГС свои праздничные туфли и подарила бигуди. В ЗАГСе девочек ждал Витя с такой же большой, как и сам, сестрой. Мать их осталась дома, как сказала сестра, рыдает в постели: сына окрутила какая-то шлюха ради московской прописки. Мать была права и не права, потому как Вика вскоре оценила Витину преданность, и жили они спокойно, обстоятельно. Витя стал учиться и получил самый высокий слесарный разряд.
Устроилась и Лидка-липучка, теперь она бегает с кастрюлькой пельменей на второй этаж к своей сокурснице, предварительно отсчитав им на двоих не более шестнадцати штук. Они договорились ехать по распределению вместе в один город. Нетрудно предвидеть, как будут развиваться их отношения: сначала Лидка своей неуёмной заботой, ненужными услугами, опутает жертву. Затем, не удовлетворившись ответным вниманием, начнёт качать права. Напарница станет раздражаться, Лидка ослабит хватку, потом снова станет наседать. И так до новой жертвы своей привязанности.
Тайло подала документы в аспирантуру НИИ психологии Академии педагогических наук в сектор эвристики – творческого мышления. Во вступительном автореферате нужно было обосновать то, что она представляла на уровне интуиции – математическая истина, хоть и не выводится из опыта, тем не менее, имеет всеобщую значимость. Это предварительное, не противоречащее логике знание является стимулом развития творческого мышления. Гипотеза организует поиск, даёт возможность угадать всеобщую связь. Это всё равно, что принять за аксиому детское предощущение необходимости справедливости, – так должно быть. Настоящие проблемы ставятся жизнью. Аристотель говорил: "Нет в уме ничего, чего бы раньше не было в ощущении". Невольно думалось о том, что ожидаемый евреями Машиах ─ тот, кого пока нет, но должен быть, ─ есть преддверие грядущего века братства и любви.
Автореферат имел конкретного адресата – Ноя Соломоновича Каца, заведующего сектором креативной психологии, то есть психологии творческого мышления. То был невысокого роста, худощавый, подвижный, с чрезвычайно выразительной мимикой человек. Вздыбленные, мелко вьющиеся с проседью волосы, орлиный нос, цепкий взгляд создавали впечатление, будто собеседник не только читает твои мысли, но и знает про тебя больше, чем ты сама.
– Ну что ж, – заговорил Ной Соломонович, – посмотрел я ваш реферат. Понимаю и разделяю соблазн соскользнуть в область метафизики, но придётся ограничиться материалистическим подходом. Здесь тоже есть, над чем работать. Впрочем, мне бы не хотелось ограничивать вашу свободу. Пишите, мы потом решим, каким образом материализовать ваш идеализм.
Зав сектором задумался, затем быстрыми шагами от стенки к стенке стал мерить свой кабинет. Так же внезапно остановился и продолжал:
– Вы ищете то, что может сориентировать мышление подростка на вечные идеи добра, справедливости. И это важнее, чем искать философский камень, дабы превратить олово в серебро или в золото; над чем алхимики ломали голову. Я тоже когда-то мечтал осчастливить человечество. Математическая интуиция в данном случае сродни кантовским априорным суждениям о Боге, бессмертии, свободе. Вот и Пуанкаре писал: "Недоказуемые принципы не что иное, как обращение к интуиции, синтетические суждения априори". Что же вы стоите, сядьте, наконец!
Соискательница не смела поднять глаза, она верила и не верила своему счастью – то был самый удивительный миг в её пятилетнем пребывании в Москве.
– Должен вас огорчить: не ждите от меня помощи, то есть руководящих указаний. Я люблю учиться, а не учить. Аспирант ─ взрослый человек. А теперь вперёд! Сдавайте кандидатский минимум и штурмуйте бастион науки. Желаю удачи!
НИИ психологии Академии педагогических наук оказался райской обителью – просторное светлое здание в самом центре Москвы в одном дворе со старым университетом напротив Манежа. Здесь на высоком круглом пьедестале посреди цветочной клумбы сидит белый мраморный Ломоносов – основатель первого российского университета. Проходя мимо, невольно засмотришься на него и почувствуешь себя приобщенным к размышлениям учёного-энциклопедиста. К истине, считал Ломоносов, приводит теоретическое обобщение конкретного опыта. "Это так, однако, в математике интуиция во многом предшествует опыту, – мысленно возражала Тайло. – Предощущение истины часто оказывается значимей реальности. Григорию Николаевичу, подобно пифагорейцам, виделась сущность в числе. Следовательно, можно вообразить формулу гармонии мира, некое образующее, животворящее начало, без которого не было бы представления о должном развитии человечества. Мама просто уповает на Бога. В зимней темноте, когда сон мешается с явью, огоньки её субботних свечей переселяют в другой, ирреальный мир, где мечта неотделима от действительности". Вглядываясь в мраморный лик Ломоносова, Тайло ну никак не хотела соглашаться с великим мыслителем земли русской в том, что Бог, сотворив мир, устранился от участия в нём.
В НИИ психологии всего лишь два присутственных дня – вторник и четверг, остальное время твоё. Аспиранты и соискатели с почтением провожают глазами известных психологов, изучают их книги, последние статьи и берут разгон на длинную дистанцию – догнать и перегнать.
Из студенческого общежития Тайло переехала в аспирантское, где у каждого есть своя отдельная комната. Кто тут только ни живет – одинокие, семейные, командировочные. Не успела новая хозяйка временного жилья распаковать чемодан, как кто-то постучался. Открыв дверь, увидела невысокого плотного мужчину средних лет, в глазах хитринка ─ мол, знаем мы вас, одиноких женщин, только и ждёте, чтобы кто-нибудь наведался к вам. Гость галантно поклонился:
– Разрешите представиться: Феликс. Мы с вами соседи, моя комната справа. Вместе будем чай пить, и, пожалуйста, никаких церемоний, чуть что – стучите в стенку, и я – к вашим услугам. Можно войти?
– Да, конечно.
– А здесь ещё не выветрился запах Анзора, он только на той неделе съехал. Чуете, сигаретами пахнет, дорогими духами. Ужасный щёголь и чистюля. Я вам помогу справиться с чемоданом.
– Спасибо, но мне не нужна помощь.
– Так вот, я о том, что ваш предшественник был ужасным чистюлей. Представляете, приходит к нему девочка, а он, прежде чем уложить цацочку в постель, просит её принять душ. И сам три раза в день чистил зубы. Папочка его, большой начальник в Ереване, денег не жалел, вот сынок и ездил на такси. Ужасный мот.
Гость, рассказывая о съехавшем соседе, открыл шкаф, извлёк оттуда брошенную рубашку и два галстука. Придирчиво оглядел находку и как бы между прочим заметил:
– Прихвачу, пожалуй, вам они ни к чему.
– Ни к чему, – подтвердила Тайло.
– Вы можете звать меня просто Феликс, или Филя, а если нежно – Лёлик, меня мама так звала. Мои родители были ярыми коммунистами, вот и назвали меня, своё единственное чадо, в честь Феликса Дзержинского. Я, как вы понимаете, до войны родился, тогда искали героев среди рабочего движения, революционеров. Дзержинского называли "железный Феликс", но это не про меня, я мягкий, податливый. Он из Польши, а я из Ростова-на-Дону. А вы откуда?
– Я из Дербента. Скажите, Анзор, который здесь жил, по какой теме защитился?
– Если бы защитился! Он тоже, как и я, физик. Четыре года делал вид, что работает над диссертацией. Всё темы менял, жаловался, что с руководителем ему не повезло. В конце концов разругался со всеми и уехал. Зачем богатому человеку кандидатская степень, папаша и так пристроит. Занимался физикой твёрдого тела. А вы над чем ломаете вашу прелестную головку?
– Думаю о соотношении логики и интуиции в математике.
– Этой темы вам на всю жизнь хватит.
– Хватит.
– А я в длительной командировке здесь, соискатель в Институте кристаллографии. Как видите один, ни жены, ни детей, и мама недавно умерла... Вы значит из Дербента, подумать только, какая экзотика! Никогда не доводилось бывать в тех краях. Дикость, наверное, ужасная. Я слышал, в этих отгороженных от цивилизации районах за девушку с высшим образованием калым не платят и вообще замуж не берут. Так что присмотритесь здесь к ближнему своему. Да что это я разговорился, давайте лучше чай пить. Анзор, человек не мелочный, заварку оставил, а вот и сахар.
Тайло достала из сумки хлеб, колбасу.
– Колбаса, – разочарованно проговорил сосед, – я этой колбасой сыт по горло. Мясо люблю, тушёное с черносливом. Меня мама избаловала, я ведь у неё был единственный. Я сейчас вам мамину фотокарточку принесу.
Феликс поспешно вышел, и через несколько минут Тайло держала в руках фотографию красивой молодой женщины. Такие же, как у сына, светлые в тёмных ресницах глаза, только в отличие от глаз Феликса – серьёзные, вопрошающие.
– Я на маму похож. Мама была актриса. Очень талантливая. Рассказывала, как поступала в театральную студию: на экзамене по мастерству предложили изобразить, будто ест пирожное, и она так увлеклась, что, съев воображаемое пирожное, попросила ещё. "Ах, какая прелестная девочка", – умилился председатель приёмной комиссии и взял маму в свою мастерскую или класс, не знаю, как это у них называлось. Потом появился я – ваш покорный слуга. Мама работала в театре и брала меня с собой, дома не с кем было оставить. Впрочем, я вас совсем заговорил. Может быть, вам не интересно?
– Очень интересно, – откликнулась Тайло.
– После спектакля, когда занавес опускался, маму вызывали на бис, она выходила, кланялась, ей подносили цветы, а я, сидя в первом ряду партера, разворачивался к залу и кричал: "Это моя мама!". Зрители смеялись и ещё больше хлопали. Все дети во дворе и в школе мне завидовали, девочки смотрели на меня с обожанием. Посмотрите на меня, – гость повернулся в профиль, – я вам никого не напоминаю?
– Не-е-ет.
– Посмотрите внимательней: горделивая осанка, чувство достоинства – лицо римского патриция, прямой, словно обрубленный нос, густые брови, могучая шея. Правда, я невысокого роста, но это не мешает успеху у женщин. Бывало, сидим с мальчиками на парапете набережной Дона, выбираем девочек. Красотки дефилируют мимо, делают вид, будто не замечают нас, будто нет им до нас никакого дела. И мы выклёвываем ту, которая покажется самой привлекательной. Приятели мои вскоре женились и стали приходить на набережную, это у нас центральный проспект, с жёнами, колясками, а я до сих пор выбираю. Вообще-то я предпочитаю высоких женщин, но не отказываюсь и от меленьких. Они, знаете ли, бывают сладкие, как дыньки, – маленькие, кругленькие... – Гость, отодвинув от себя хлеб и колбасу, прихлёбывал пустой чай.
– Вы и сахар не берёте? – спросила хозяйка.
– От глюкозы поправляются. Кстати, и вам не советую.
– А мне всё равно, килограммом больше, килограммом меньше.
– Ну, это вы зря, я не люблю полных женщин.
"А вы тут при чём", – усмехнулась про себя Тайло.
В следующий вечер Феликс, или как он себя называл, Филя, снова пришёл. Выказав неудовольствие по поводу всё той же колбасы к чаю, долго не засиживался. Прощаясь, церемонно раскланялся и, бросив взгляд на толсто нарезанные ломти колбасы, произнес: "Через день-другой обживётесь и пригласите на настоящий ужин. Мясо тушеное люблю, можно бифштекс, только не очень зажаренный".
"Ему и в самом деле больше идёт имя Филя, а не Феликс, – думала Тайло. – Лёгкий человек, зайдёт, уйдёт, вроде и не было. Бездельник. Говорил, что любимое занятие – ничего не делать. Однако от безделья устаёшь больше, чем от работы".
Своего научного руководителя она не могла представить праздным, и походка у него быстрая, устремлённая. Всегдашняя сосредоточенность заставляет собраться с мыслями и окружающих. Глядя на усердие, с каким новая аспирантка ищет литературу по своей теме, заметил:
– «Время собирать камни и время разбрасывать камни». Об этом в Экклесиасте сказано. Непременно посмотрите. Вы собираете знания, я тоже в своё время жадно набросился на книги, теперь раздаю и знания и книги. Всё идёт своим чередом и каждый выбирает себя, то есть свой путь.
– Или не выбирает, поступает, как может, – тихо проговорила Тайло.
Ной Соломонович внимательно посмотрел на девушку. Та продолжала:
– Желания и возможности не всегда совпадают.
– Моя педагогическая практика свидетельствует о том, что вольно или невольно при минимальных условиях мы всё-таки стремимся реализовать заложенную в нас программу, своеобразный код души. "Душа" не научное слово, скажем, эмоции и интеллект, они во многом определяют поведение человека. И ведь что интересно, наличие физиологических данных, например, музыкальной памяти, слуха, вовсе не предполагает потребности заниматься музыкой. Скажите, а что послужило стимулом вашего интереса к науке?
– Всё началось с детских впечатлений. Дело в том, что моё появление на свет – случайность. И необыкновенный учитель математики в школе тоже случайность.
– Да, но мы все можем говорить о случайном стечении обстоятельств нашего рождения и появления людей, с которыми сводит судьба.
– У всех по-разному, а я ещё в пятом классе задумалась: всё происходящее в мире – случайность или определяется неким смыслом, хотела понять, что от чего происходит.
– У вас мания величия, хотите постигнуть волю Провидения. Я вовсе не шучу, более того, я и сам когда-то хотел объять необъятное. Эту устремлённость можно назвать манией величия, а можно обозначить своеобразной жизненной энергией, потенцией ума.
Говоря всё это, Ной Соломонович беспокойно ходил по комнате, затем, словно что-то решив, сел за свой стол, придвинул бумаги и вмиг утратил подвижность.
В дни, которые проходили от одного присутственного дня до другого, аспирантка продолжала мысленный диалог со своим руководителем. Бессилие сказать что-либо значимое сменялась надеждой стать достойным собеседником. Возникали сомнения – а может, нет никакой тайны в судьбе человека и его взаимодействии с миром, или эту тайну нужно искать не в психологии и математике. И тогда все усилия теряли смысл, появлялось ощущение потерянности: что значит человек, если всё происходит помимо его воли? Потом снова удачная мысль возвращала надежду понять соотношение случайности и неразгаданного предписания небес. В такие мгновенья казалось: ещё немного – и проникнешь в неведомый источник полноты бытия.
Тайло была поражена, когда по просьбе шефа, придя к нему домой помочь разобрать архив, увидела его жену. Та, вопреки ожиданиям, вовсе не светилась счастьем. Бледная, анемичная, она не смотрела на мужа с обожанием. На его предложение познакомиться с новой аспиранткой Жанна кивнула, едва взглянув на гостью, и продолжала разговаривать по телефону. Как театр начинается с гардероба, так и дом начинается с прихожей. Здесь, несмотря на летнюю жару, валялась грязная зимняя обувь, в сапоге с мехом, что стоял у стенки, гостья увидела огромного паука, обосновавшегося в плотной паутине. На вешалке вперемежку громоздились шубы, плащи, куртки, тут же были навалены сумки. Такое же запустение и в комнате – окно с оборванной шторой, всюду разбросаны вещи. В грязной захламленной квартире, казалось, давно никто не живёт.
Ной Соломонович шёл впереди, прокладывая гостье дорогу к своему кабинету.
– А вот и моя келья, – распахнул он перед ней дверь.
То была и в самом деле келья – комната аскета: узкая кровать, напоминающая каменное ложе, уставленные книгами и папками полки, письменный стол с разложенными бумагами.
– Я вам чаю принесу.
– Спасибо, чай потом.
– Ну что ж, тогда давайте работать. В прошлый раз мы с вами говорили об умении педагога передать детям свою увлечённость предметом. В школе, где я учился, русский язык и литературу вела замечательная учительница Софья Ароновна, она чувствовала слово, будто пробовала его на вкус и запах, как дегустатор вина. Представьте себе, чуть ли не половина учеников нашего класса ушла в филологию. Обаяние Софьи Ароновны, в отличие от прочих учителей, заключалось в том, что она умела раскрыть личностное отношение учеников к художественному тексту, их творческое "я". Вы бы сказали – "душу", но слово это, как мы с вами уже отмечали, не научное, хотя оно мне тоже больше нравится. Вот вам тема для размышлений: что в детях определяется их врождёнными задатками, инстинктивной тягой, а что является результатом развития, знакомства с предметом. Здесь, как вы понимаете, трудно отделить одно от другого; без соответствующей информации не проявится врождённая склонность.
По поводу соответствующей информации, Тайло в который раз мысленно благодарила своего первого учителя: не услышь она от Григория Николаевича завораживающие слова о тайне числа, ей бы и в голову не пришло искать в математике принцип творения мира.
Ной Соломонович продолжил:
– Не вы одна сидели в классе, но именно вы откликнулись, вам оказалась близка увлеченность педагога-идеалиста. Я его понимаю, идеалистом легче жить, чем материалистом. Впрочем…
"И всё-таки мы зависим от обстоятельств, – соображала девушка, – будь со мной Гочи, мир показался бы совершенным, и тогда нечего было бы искать".
– Да, стремление к познанию часто возникает от неудовлетворённых желаний, – снова хозяин угадал, о чём подумала гостья. – Затем следует работа ума, приобщение к культурному наследию человечества.
Просматривая бумаги Ноя, Тайло наткнулась на рисунок, в котором тотчас узнала силуэт заведующей отдела кадров – Валентины Ивановны, которая зимой и летом носила одежду розового цвета.
– Дура, – как бы между прочим проговорил Ной, заметив усмешку собеседницы.
– Почему дура?
– Была бы умной, не ходила бы всегда во всём розовом, – сдерживая смех, проговорил хозяин.
И тут они оба захохотали взахлёб – так громко, самозабвенно смеются дети.
На этот неожиданный смех пришла Жанна. Постояла в дверях и ушла – им нечего было ответить на её недоумение.
Спустя год пребывания в НИИ психологии, когда уже был сдан кандидатский минимум и точно обозначена тема диссертации, Тайло, как никогда прежде, засомневалась в своих возможностях пробудить в учениках стремление к поиску, науке. Да и можно ли его пробудить – оно или есть, или нет. Никто не прочил Ноя Соломоновича из рабочих окраин Москвы в учёные, однако, он, как пущенная стрела, устремлён к познанию. А жена его, из профессорской семьи, окончив биологический факультет университета, довольствуется работой лаборанта; капает в пробирку и ни за что не отвечает. Она унылая, безынициативная, он наоборот – страстный, увлекающийся. Он благодарен ей за то, что вышла замуж за него – тщедушного бедного студента – и родила ему двух мальчиков. "Это теперь я при регалиях, а тогда девочки не смотрели в мою сторону", – проговорил как-то Ной Соломонович.
Сознание праздника по поводу зачисления в аспирантуру со временем сглаживалось, притупилось ликование первых дней, когда проходила мимо памятника Ломоносову в преддверии постижения тайн Вселенной. Сейчас же всё чаще появлялись сомнения в своих возможностях. Будничным оказалось и общение с аспирантами из других секторов; когда-то эти люди казались значительными, многомудрыми. Чтобы избежать ненужных встреч, разговоров, Тайло уходила в большую аудиторию, где происходили самые значительные события института: доклады, лекции, заседания учёного совета. В этой аудитории, на какое бы место ни сел, везде одинаково слышно и видно. Ступеньки между рядами ярусов ведут к самому потолку, где ощущение то же, что и в первых рядах, будто сидишь перед лицом докладчика. Там – на самом верху, в углу у окна, и устраивалась Тайло с книгами.
В последнем письме мама рассказывала о том, что их завод перевыполнил план на несколько тысяч литровых банок баклажанной икры; и ей, как подсобной рабочей, выдали премию – тридцать рублей. Это почти половина зарплаты. Мама спрашивала, послать ли деньги по почте или дождаться, когда дочка сама приедет. Ещё писала о скором празднике Песах; она уже вымыла дом, побелила печку. Спрашивала, как проводят этот праздник евреи в Москве. Тайло ответила: "Деньги посылать не нужно, хватает стипендии, ещё остаётся. Пасха здесь отмечается русская, и означает воскресение одного человека, в отличие от нашей, когда воскресла душа народа. Евреи Москвы очень отличаются от горских, они не придерживаются традиций, но в душе остаются евреями". Вот и её научный руководитель Ной Соломонович Кац сверяет свою совесть с давно ушедшим в лучший мир дедушкой, с его чувством греха, обращением к Богу. Про то, что не может отвести глаз от своего, на первый взгляд, неказистого шефа, не писала. Не писала и о том, что он умеет собрать и выстроить рассыпающиеся мысли собеседника, даёт ему уверенность в себе. Не писала о его остроумии, заразительной игре ума, смене настроений; когда искрящиеся смехом глаза в один миг становятся грустными, отрешёнными.
С женой Ною не повезло, – думала Тайло, – да и ей мало радости видеть постоянно закрытую дверь его кабинета. Когда же, наконец, он выходит из своего укрытия, Жанна набрасывается на него с разговорами о всякой чепухе: о широченной шляпе, которую видела на улице, о бутерброде с маслом из креветок – её угостили им сегодня на работе, о новом муже Эдиты Пьехи. Ной Соломонович не сразу понимает, о чём речь, а когда вникает, с недоумением спрашивает: "Зачем мне вся эта информация?" "Просто так, – обижается Жанна, – мне что, прикажешь всё время молчать? На работе целый день молчу, ещё и дома нельзя слово сказать. Не можешь же ты всё время думать о своей науке".
В дни, когда Тайло приходила к руководителю помочь разобраться с огромной стопкой его записей, Жанна была при деле – разговаривала по телефону. Только войдёт в дом, и сразу бросается к телефону. Звонила по записной книжке чуть ли не в алфавитном порядке. "Ну, как твои дела?" – медленно, тоном располагающим к долгой беседе, спрашивала она. Наверное, на другом конце провода отвечали односложно, и Жанна меняла тон на деловой: "Хочу поздравить тебя с днём рождения твоей невестки". Абонента, судя по тому, что Жанна вскоре кладёт трубку, поздравление не воодушевило. Потом звонит невестке, с которой едва знакома, – разговор закругляется сразу. Жанна разочарована, затем снова набирает чей-то номер телефона. Поводом для звонка служит не только поздравление с днём ангела или праздник Первого мая, но и законный вопрос: "Как вы себя чувствуете?", – тут уж точно она имеет право задержать внимание собеседника.
– Опять прилипла к телефону! – злится старший сын. – Ты ведь только что пришла с работы, поешь, отдохни. Сделай перерыв. Я жду звонка.
– Пока я кому-нибудь нужна, – поджимает губы Жанна, – я буду разговаривать.
– Если будешь нужна, тебе сами позвонят, – возражает сын.
Жанна искала повода не только поговорить, но и уйти из дома, оказаться где-нибудь в центре внимания, стать для кого-нибудь интересной, значимой. Взрослые дети, муж давно научились обходиться без её участия – сами жарят яичницу, стирают, гладят. И только к приёму гостей апатичная Жанна проявляла неуёмную страсть, здесь она изображала светскую даму и хозяйку большого дома – брала реванш. Однажды при многочисленном застолье чуть ли не в приказном порядке велела Тайло убрать со стола грязные тарелки.
– Я сам уберу, – поднялся Ной Соломонович, – хозяева ухаживают за гостями, а не наоборот.
– Как хочешь, – пожала плечами Жанна, ей не хотелось выходить из роли повелевающей хозяйки. И тут же, забывшись, утратила чувство приличия – запустила руку за ворот платья и яростно почесалась. Должно быть, выпила лишнего.
Тайло хотела незаметно уйти, не дожидаясь, когда на столе окажется следующее блюдо.
– Я провожу вас, – догнал её на улице хозяин.
– Не стоит вам оставлять гостей, – возразила девушка.
– Сейчас вернусь, всего лишь пять минут до метро и столько же обратно. Простите мою жену, она неплохой человек, иногда несносно упряма, но это способ самоутверждения. У нас у каждого получилась своя жизнь, ей неинтересны мои проблемы, вот и развлекается, как может. Я не возражаю, просто горько, что не сумел сделать её счастливой. Да и может ли один человек сделать содержательной жизнь другого, разве что думают об одном и том же, только в этом случае двое становятся как один. Такое случается редко. Опять же обстоятельства: в первый год нашей совместной жизни меня привязывало обычное мужское начало, затем маленькие дети – общие заботы. Сейчас дети взрослые, у меня есть наука, а у Жанны – ничего. И говорить нам оказалось не о чём. Я не тот, кто ей нужен. Приводит мне в пример мужа своей подруги, тот спрашивает жену: "Мусенька, куда мы с тобой завтра пойдём?" И, как фокусник, вытаскивает из кармана два билета в театр или на концерт. "Бывают же заботливые мужья", – завидует подруге Жанна.
Тайло знала – Ной не ходит в театр оттого, что его восприятие литературного текста ярче, полнее, чем игра актёров. И в гости он не любит ходить – не хочет расставаться с самим собой. А Жанна, напротив, стремится вырваться из дома, показать свои туалеты, надеть украшения.
В следующий раз Ной Соломонович попросил свою аспирантку прийти в воскресенье с утра; за день они успеют сделать больше, чем за несколько вечеров. Когда та в назначенное время оказалась перед дверью своего руководителя, услышала перебранку супругов:
– Ну почему, почему я не могу приучить тебя к порядку!? Неужели так трудно летом убрать валяющиеся по всей квартире зимние вещи, а зимой – летние?!
– Тебя никто не просил убирать! – злилась Жанна. – Всё было на виду, а теперь я ничего не могу найти.
– Теперь далеко ходить до кладовки или до шкафа?!
– Глупая киска, – переключается на кошку Жанна, – сколько раз показывала, где стоит ящик с песком, а ты всё никак не поймёшь.
– Сколько раз я тебе говорил не сушить половую тряпку на батарее – запах ужасный! – в голосе Ноя едва сдерживаемое раздражение.
Тайло уходит, возвращается через двадцать минут. За дверью тишина. Теперь можно постучаться.
Обычно Жанна встречала и провожала ученицу мужа кивком головы, не отрываясь от телефона, а тут она в тренировочных штанах моет пол, даже балкон вымыла, а то всё дождя ждала: мол, дождь сам всю грязь смоет. Оказывается, предстоял юбилей Ноя Соломоновича – пятьдесят лет. В ожидании гостей Жанна ожила: купила экстравагантное платье, сходила в парикмахерскую и даже приготовила праздничный обед. Питавшиеся бутербродами дети и муж, на сей раз с наслаждением вдыхали запах её коронного блюда – рыбных тефтелей.
Ближе к вечеру Тайло стала собираться домой.
– Ни в коем случае, – запротестовал хозяин, – вы моя главная гостья. Вы мне помогаете работать, значит, жить.
Жанна принимала и рассаживала гостей с восторженными восклицаниями. После нескольких рюмок её неуклюжее кокетство обернулось совершенной раскованностью – она изображала роковую женщину, коварную обольстительницу. Кто знает, может, в глубине души и была таковой. Сомкнутые губы разжались, на всегда бледных щеках появился яркий румянец, и даже прорезался завлекающий смех русалки. В небрежной позе, одна нога закинута на другую, хозяйка дома явно себе нравилась. Уверенная в своей неотразимости, она не смущалась обнажившихся в высоком разрезе платья тощих ляжек. Иначе откуда бы взяться у этой анемичной женщины взгляду победительницы. Деликатные гости отводили глаза.
– Мне эти застолья – тоска смертная, – говорил Ной, провожая Тайло до метро, – но запретить не могу, это значит перекрыть жене кислород. Она только и оживает, когда мои коллеги целуют ей ручку и говорят комплименты. Кстати, есть за что, прекрасно готовит, только для вдохновения ей нужно почувствовать себя хозяйкой салона. А как вам понравились мои сыновья?
– Очень понравились. Они разные. Старший сын – ваш, я имею в виду характер, а младший – мамин.
– Да, это так. Аркадий, так же, как и я, старается улизнуть от застолий. Обычно он для приличия посидит минуту-другую и уходит в свою комнату. А Саша, младший, наоборот, чувствует себя очень комфортно при гостях, выжидает момент, чтобы принести свой аккордеон и завладеть всеобщим вниманием. Кстати, что вы можете сказать о его игре?
– Я не знаток, но мне кажется, хорошо играет.
– Впрочем, это не имеет значения. Интересно, что характеры детей определились сразу, чуть ли не в младенческом возрасте. Саша в три года норовил залезть на стул и прочесть гостям стишок, а Аркадий прятался от гостей под кроватью. Вот и сейчас, Аркадий сидит в своей комнате, а Саше, маменькиному сынку, требуется внимание, похвалы. Вы, конечно, понимаете, я не тот муж, который может сделать Жанну счастливой, но без меня ей было бы ещё хуже. А главное, не могу оставить мальчиков, особенно Аркадия, он, с его уязвимой психикой, ищет во мне опору.
Ной Соломонович замолчал, о чём-то раздумывая, затем как-то уж очень серьёзно заговорил:
– Тайло Хизгиловна, я старше вас почти на четверть века и по праву старшинства даю вам совет: не относитесь к людям слишком серьёзно. И задачи вы ставите перед собой непосильные. Всё в жизни идёт своим чередом, по своим законам, если случайность можно назвать законом. От нас мало что зависит. Чем проще задачу ставит перед собой человек, тем легче ему выжить. Не отрывайтесь от реальности, природа мстит за пренебрежение ею.
У входа в метро девушка благодарно улыбнулась своему наставнику и поспешила домой. Её не покидали мысли о пьяной Жанне. "Ведь и я, если бы выпила столько вина, стала бы раскрепощённой, и я хочу нравиться мужчинам, хочу, чтобы меня любили. А если и мне надеть платье с голой спиной и напиться? Тоже почувствую себя неотразимой? Получится жалкое зрелище, как у Жанны. А ведь у неё правильные черты лица, и худобу можно представить элегантностью, вот только взгляд испуганный, растерянный. Её подавил интеллект мужа".
Оказавшись дома, Тайло включила приёмник, приглушила звук и, распрямившись, стала вживаться в ритм музыки. То был африканский танец, раскрепощающий дикарские инстинкты. "Кто знает, будь у меня ноги подлиней, стала бы танцовщицей, и не пришлось бы решать неразрешимую задачу – искать формулу справедливости, судьбы человека. Слишком много случайностей определяют нашу жизнь. Но ведь случай можно рассматривать как цепь непознанных причин и следствий. Нам не по силам проследить и изменить эту связь. Значит, только и остаётся делать то, что в наших силах, а дальше полагаться на волю Небес... Говорят, я сильная, волевая. Это неправда, я не могу преодолеть желания иметь семью, дом, в котором много детей. Мальчики из нашей группы в институте выбрали длинноногих блондинок с филологического факультета, и тут бессильны всякие рассуждения".
Музыка прекратилась, Тайло стояла посреди комнаты. Казалось, сейчас, сию минуту, чтобы не оставаться одной, нужно что-то сделать, предпринять. Но что? В памяти всплыло купе вагона, когда она первый раз ехала в Москву поступать в университет. Там были два парня блатного вида и защитивший её старик. Когда подъезжали к Москве, всю дорогу молчавший старик сказал: "Девонька, не жди, когда тебя полюбят, сама люби". "Сама люби…, сама люби… Значит, я могу любить Ноя независимо от его отношения ко мне".
За стеной у Феликса возня, к нему теперь приходит высокая красивая девушка в красных туфельках. Рядом с ней он кажется совсем уж низкорослым. Однако ходит с достоинством – царственный, медлительный. Говорят, так ходят низкорослые мужчины – походка Наполеона. Этот Филя с коротенькими пальчиками и ножками – когда сидит на стуле, ноги до пола не достают – до сих пор мнит себя завидным женихом.
– Почему вы любите высоких женщин? – спросила однажды Тайло, когда он зашёл к ней на запах жареного мяса.
– Рядом с высокой женщиной у мужчины возрастает чувство своей значительности, ─ ответил Филя. ─ Раньше меня навещала маленькая сладенькая, но она вышла замуж, теперь приходит другая. Я всяких люблю, а больше всего люблю ничего не делать. Я даже придумал, как безбедно можно прожить, не работая. Хотите, расскажу?
– Расскажите, что будете делать в свободное время.
– Как что!? – изумился сосед. – Гулять, лежать на пляже.
– А зимой?
– Зимой сижу в позе лотоса или стою на голове, выхожу в астрал. Когда мама была жива, захаживал в ресторан. Бывало, закажешь бутылочку хорошего вина, шашлык и сидишь, кайфуешь весь вечер. Сейчас я не могу себе такого позволить, разве что куплю хорошего мяса, обжарю картошечку со всех сторон, наколю на вилочку и сижу – кум королю.
– А вы женитесь на девушке, которая к вам ходит, и будет она подавать вам обед, как в ресторане.
– Нет, на Наташе не женюсь, она уже была замужем, и у неё есть ребёнок. В первые дни держалась молодцом: придёт – уйдёт, и никаких проблем, а сейчас стала права качать, ей, видите ли, замуж хочется. Я ей говорю: "Ну что тебе ещё надо, всё же было, всё хорошо, через несколько дней снова придёшь". Не хочу я жениться, женщины только сначала покладистые, потом сядут на шею – сделай то, сделай это. Я свободу люблю.
– Жена бы вам детей нарожала.
– Ну, это от меня никуда не уйдёт.
– Вам ведь уже за сорок.
– Верно, но время ещё есть. Я ведь не как вы – женщины, я мужчина.
"В сорок лет у Ноя Соломоновича был длинный список научных работ, – думала Тайло. – И сколько в нём ума, доброты; встретит человека и сразу прикидывает, чем ему помочь. В его присутствии проясняются мысли, находятся нужные слова. А этот Филя только и смотрит, где ему кайф поймать. Болтун, после общения с ним остаётся чувство пустоты, которое тягостней одиночества".
– Уже поздно, – хозяйка зевнула, забыв прикрыть рот.
– Неужели вы сейчас ляжете спать?! – удивился сосед.
– Почему бы и нет? Я рано встаю, а вам самое время постоять на голове.
– А если я влюблюсь в вас?
– Вы мне угрожаете?
Обескураженный гость, считавший свою влюблённость бесценным даром, продолжал:
– Ну, скажите, зачем вам спать в одиночестве, если рядом, всего лишь за стенкой есть я. Жаль, что вам не с кем сравнить, а то бы оценили меня.
– Спокойной ночи, – с раздражением проговорила хозяйка.
Соседу ничего не оставалось, как направиться к двери, а Тайло – что-нибудь почитать, дабы преодолеть уныние и тоску; после Филиных визитов всё теряло смысл – любовь, честь, верность.
Не успела за ним закрыться дверь, как в комнату ворвалась Марина – вахтёрша общежития:
– Ага, вот вы где, Феликс Константинович!
– Ухожу, ухожу, – поспешно ретировался сосед.
– Представляешь, приходит этот гад вчера ко мне с бутылкой пива, развалился, как барин, за столом и разглагольствует: "Нет никакой любви, есть секс, сразу с первого взгляда ясно – есть влечение или нет. Зачем все эти уловки – цветочки, подарочки". Я его спрашиваю: "Значит, ухаживать за женщиной ни к чему?" – "Ну да, – отвечает, – ведь сразу видно, есть готовность или нет". ─ "А ты, – говорю, – снял бы штаны и сразу же при первом знакомстве продемонстрировал свою готовность". Выпил он своё пиво и спрашивает: "Тебе бутылка нужна?" Я бы его этой бутылкой по голове! Так ведь с работы погонят. Пустоцвет! Ходит, эдакий крепыш, выпятив грудь – смотрите, какой я сексуальный! А что ему, бездельнику, холит себя, до полудня спит, потом делает зарядку. И за кем он только не волочился здесь, каждой говорил: со мной не пропадёшь. Ну его к чёрту! Слушай, пойдём ко мне, у меня сегодня день рождения, выпьем по рюмочке. Всего-то подняться на один этаж, моя комната ничем не отличается от твоей, те же одиннадцать метров и та же казенная мебель.
– Пойдём! – с радостью согласилась Тайло. – А вот тебе подарок.
– Ты с ума сошла, кто же дарит такие дорогие духи!?
– Папа подарил, когда приезжал ко мне, так и стоят нераспечатанные.
– Как же это твой отец мимо меня прошёл, и я его не видела.
– Он ещё в старое, студенческое общежитие приезжал. Бери, всё равно без дела стоят.
– Спасибо, вижу, от сердца даёшь. Нам бы с тобой давно сдружиться, а то ходишь мимо моего вахтёрского кресла, доброе утро, добрый вечер – вот и весь разговор.
Комната Марины оказалась увешанной рисунками, эскизами. На мольберте стоял повёрнутый к стене холст.
– В твоей комнате – книги, в моей – картины, – развела руками хозяйка. – Садись, не смотри по сторонам, потом всё покажу от начала до конца. Садись, выпьем по случаю моего дня рождения. Ты смуглая, южная женщина, а я, наоборот, белесая, будто обесцвечена сибирскими морозами.
– Верно, я с Кавказа.
– У тебя есть там дом?
– Дом есть. И мама есть, одна живет. У отца другая семья.
– А у меня в Воркуте никого не осталось. Мама долго болела, как только отец не куражился над ней – бил, кричал: "Хоть бы ты сдохла поскорей". Мама молчала, только плакала ночью, и даже не плакала, так только всхлипывала потихоньку, боялась детей разбудить. Я не спала и всё слышала. Я хотела задушить отца. Днём, когда он уходил на работу, мама обнимет маленьких, ласкает и приговаривает: "Сироты вы мои, что с вами будет". Мама умерла. Только похоронили, отец сразу же привёл в дом новую жену, беременную. Я тогда в девятом классе училась. Маленьких детей отец увёз куда-то в детдом, сколько ни допытывалась, не сказал куда. А меня оставил нянчить его ублюдка. И нянчила, куда денешься. А как школу окончила, отец паспорт мой спрятал, знал, что хочу убежать. Кричал: "Куда ты, паскуда, денешься, кому ты нужна, шалава!" Я свой аттестат зрелости хранила у подружки, а то бы он и его спрятал или порвал. Понимал, что только и думаю, как бы сбежать. Я хотела учиться рисовать, всегда об этом мечтала. Помню, увидела, как блестит снег под луной, и остановилась завороженная. Тогда же в первом классе весной нарисовала корявый ствол старого дуба цветными карандашами: на серо-коричневой коре распускающиеся зеленые почки. Мне всегда учителя говорили: тебе нужно учиться в Москве, в художественном училище. Передать оттенки цвета, изгибы ствола нетрудно, главное, чтобы дерево дышало, жило, и вода должна быть живой. Я знала – всё равно убегу и стану художником. Когда отца с мачехой дома не было, чем только не рисовала – мелом, углём из печки, разведённой синькой. Если отец находил эти художества, рвал, топтал ногами, избивал меня. А я всё равно рисовала и обшаривала втихаря все углы, куда бы он мог спрятать мой паспорт. Без паспорта не уедешь. Наконец нашла в сарае на чердаке, лежал завёрнутый в газету под дырявым ведром, в котором были навалены всякие железяки. Схватила и сразу же хотела бежать из дома, потом на станцию, но отец поймал бы меня. На нашей станции останавливается только один поезд – в три часа ночи. Так бы и сцапал на платформе. Нет, я оставила всё, как было, вдруг ему вечером придёт в голову поглядеть захоронку. Ужасно боялась, как бы не перепрятал. Взяла у подружки свой аттестат зрелости и спрятала на себе. Ночью, когда услышала храп отца с мачехой, потихоньку пробралась в сарай, приставила лестницу – поднялась на чердак. Хорошо, ночь была лунная – всё видно. Тряслась от страха, как бы ребёнок не заплакал или отец не встал по нужде. Нашарила под ведром свой паспорт, выбралась на улицу и пустилась бежать к станции. Не стала проситься у проводника, чтобы пустил хоть в тамбуре постоять, неизвестно на кого нарвёшься. Вскарабкалась на площадку последнего вагона, ехала, как на самолёте летела. Дело было летом – не холодно. Ты ешь, попробуй холодец, ешь, не стесняйся. Я долго могу рассказывать. Картины мои тебе нравятся?
– Да, очень! И вправду всё на них живое, дышит: бегут наперегонки облака, речка едва удерживается в своих берегах. Всё наделяешь своим темпераментом. Ну, а дальше, что было дальше, когда до Москвы добралась?
– Дальше ночевала на вокзале, в привокзальном буфете собирала со столов недоеденные пирожки, хлеб. На третий день набрела на художественную выставку, что на Кузнецком мосту. Стояла перед стеклянной витриной, как приклеенная. Потом вошла и сказала тамошней дежурной, что приехала из Воркуты, хочу учиться рисовать. Спросила, не знает ли она, кому нужна домработница или нянька, а то мне жить негде. На вокзале милиционер уже приметил меня. Поняла та добрая женщина, что идти мне некуда, если прогонит, лягу под дверью как собака бродячая. Взяла к себе, дай ей Бог здоровья. Она же и устроила меня вахтёром в это общежитие. Оформили по лимиту, дали жильё. Поступила в художественный институт, не окончив художественного училища, – я одна такая была. Как раз в том году в институте открыли вечернее отделение. Всё образовалось. Ну что ты всё оглядываешься на холст? Раз повёрнут к стенке, значит, в работе, ещё не закончен. Погоди, дойдёт и до него очередь. Впрочем, зачем ждать, сейчас покажу. – Марина резко поднялась и одним рывком развернула холст.
То была обнажённая мужская натура с античным торсом и высокими мускулистыми ногами. Вглядываясь в красно-бежевые тона картины, гостья всё больше ощущала притягательность мужской плоти – разум замолкал перед нарастающей силой влечения.
– Ну как? – усмехнулась хозяйка. – Вижу, проняло тебя. Теперь и говорить не о чем.
– Я смотрю на него твоими глазами… Всепобеждающая сила красоты.
– А ещё что ты можешь сказать?
– Ты влюблена в него.
– Не то слово, у меня руки трясутся, когда пишу его, будто прикасаюсь к обнаженной натуре, а её, натуру эту, руками трогать нельзя. Еле сдерживала себя, чтобы не бросить кисть и не выбежать из мастерской. Славка, целый семестр в нашем классе позировал, а после я его позвала на свою отдельную постановку. Ему всё равно, стоять ли перед пятью студентами, или перед одним, деньги те же: за сорок пять минут – рубль. Он у меня вместо трёх часов – хорошо, если час стоял. Я его больше по памяти писала, а зарплату получал и за все неотработанное время. Когда положенные мне часы натуры кончились, я его стала за свои деньги приглашать. Моя дрожь передалась ему, сошёл с подиума… и мы оказались рядом. А у тебя был мужчина?
– Нет, но я тебя понимаю.
– Ничего не изменилось от того, что мы стали любовниками. Всё так же плачу ему три-четыре рубля за сеанс и ношу бутерброды. Только бы ел, не отказывался. Матери его свитер связала и боялась, что не возьмёт. Зарабатываю, где придётся: мою полы, иногда халтурка перепадает, например, плакаты писать.
– А сейчас где он?
– Сейчас в Крыму. Последний раз оформляла загородный клуб, получила уйму денег и отправила своего ненаглядного на юг, а то кашляет. Мать его теперь во мне души не чает.
– Ещё бы!
– Все время трясусь от страха, вдруг откажется работать со мной и денег моих не захочет. Встретит какую-нибудь кралечку и влюбится. Ему всего-навсего восемнадцать лет, учится на первом курсе Полиграфического института. Всё понимаю, но отказаться от него не могу, как приворожённая. Он на художественном факультете, книжки будет оформлять. Я тебя познакомлю с ним, только смотри не влюбись.
– Не бойся, мне одной красоты мало. Хочу, чтобы мужчина куда-то вёл, чтобы было ощущение дороги.
– Есть такой?
– Есть. Только он чужой муж. Мы с ним одинаково думаем. Он проговаривает мои ещё не оформившиеся, мысли.
– А сыночка он тебе не может сделать?
– У него своих двое. И жена.
– А ты, если очень захочешь…
– Это тебе можно захотеть, – перебила Тайло, – ты свободный человек. А у нас на Кавказе даже помыслить об этом нельзя. Ребёнок без мужа – байстрюк, позор на всю семью чуть ли не до десятого колена. За что такой срам на голову моих родителей, я уж не говорю о судьбе незаконнорожденного. Ты не представляешь наших нравов. Евреи многое переняли от окружающих мусульман. Раньше ребёнок считался байстрюком, если женщина рожала не от своего мужа, а если рожала свободная, то есть незамужняя, младенца записывали на имя её отца и никакого позора. Теперь и у евреев незамужняя женщина с ребенком вроде прокаженной. Хоть не убьют, как у мусульман, и то хорошо.
– Ты, значит, еврейка?
– Значит, так.
– Вообще-то мне всё равно, кто какой национальности. А вот завтра возвращается мой ненаглядный – интересно, что ты о нём скажешь.
Ночью Тайло никак не могла уснуть. Вспомнился мальчик-слесарь, который в прошлом году менял батарею; очень симпатичный – искорки в карих глазах, и ухаживал робко, словно боялся отказа. "Когда я вас увижу близко-близко?" – спрашивал он и смотрел так, будто и вправду очень хотел этого. "Даже не подумала оказаться с ним близко-близко. Неправда, было такое желание, но он же на несколько лет моложе меня. Опять же боялась неверности – вот ходит привлекательный мальчик по домам, меняет батареи и заодно соблазняет женщин или они его". Обнажённое тело Маринкиного натурщика будило греховные мысли. Представление мужской силы томило, распластывало на постели. На картине не было лица, всего лишь затылок с крупными завитками волос. Не в лице таилась притягательная мощь натурщика. Тайло прижимала коленки к животу, снова распрямлялась, ворочалась, пытаясь заглушить тягостное беспокойство, – не получалось. Вставала, зажигала свет, пробовала читать, но не могла сосредоточиться. Не могла унять разыгравшееся воображение; неподвластное, неуёмное желание скручивало, ломало, требовало утоления. Так же мучилась кошка Софико, которую не выпускали из дому, чтобы она в очередной раз не принесла котят. Кошка металась по квартире, мучительно выгибалась, орала, царапала пол перед дверью. Тайло попыталась представить лицо Славика и не смогла.
Спустя несколько дней увидела его у Марины – лицо капризного, избалованного юнца с пухлыми губами. Как велика сила искусства! Обрамлённое локонами лицо и в самом деле оказалось не главным. Не этот слюнтяй, а темперамент художницы, который она вдохнула в красно-коричневое изображение его торса, будил вожделение, страсть. Хозяйка подвигала своему идолу тарелки с наваленными горой сибирскими пельменями, студнем, домашними пирогами. А когда тот стал открывать банку со шпротами, выхватила у него консервный нож и, счастливая, что избавила любимого от работы, одним махом открыла сама.
Вечером девушки провожали гостя. По дороге Марина вспомнила, что забыла позвонить работодателю насчёт халтурки, возвращаться в общежитие далеко, зашла у метро в будку телефона-автомата. Пока разговаривала, к Славику подошли двое – попросили прикурить. "Не курю", – развёл тот руками. Один из подошедших развернулся и хрястнул некурящего по морде. Другой подхватил инициативу. Славик, как куль, мотался между ними. Тут выскочила из телефонной будки Марина и так засветила хулигану, что тот аж присел. Оба подхватились и бежать, воительница за ними.
Плотная, широкая в кости Марина творила мир – струю воды представляла водопадом, корявый куст рисовала прекрасным раскидистым деревом, а в мальчике-размазне увидела бога любви.
"Всё – в нас самих, – говорил Ной Соломонович. – Наше "я" определяет мышление, видение мира. Эмоциональные влечения, часто неосознанные желания являются основой характера, поступков. Мы начинаемся с детского недоумения, восторга, обиды и потребности любви. Чем болезненнее восприятие, тем сильнее стремление понять себя в окружающем мире. У каждого свой путь познания. А может быть, человек рождается запрограммированным на определённую задачу, на то, что называется врождённой идеей. Откуда взялось представление, что кто-то устроил этот мир, населил его людьми, и все должны быть счастливы? Или в нас есть предощущение некоей другой жизни? Обратитесь к началу, к тому, с чего начался ваш интерес к математике. Что определило ваш выбор? Чувство неудовлетворённости? Разбуженное вашим школьным учителем воображение? Вы мне так много рассказывали о нём".
За большим окном сектора креативной психологии – высокий тополь с голыми ветвями, чистый снег, тишина. Незаметно для себя Тайло мысленно переместилась в свой дом, представила школу, своего учителя – одиноко жил, одиноким умер. Почему-то сливались воедино Григорий Николаевич, Гочи, Ной Соломонович.
Возвращаясь в общежитие, Тайло не замечала в тот вечер грязного растоптанного снега под ногами, толпы в метро, она улыбалась, вспоминая пристальный взгляд своего руководителя. В начале их совместной работы он предлагал абстрагироваться от экспериментальных данных, потому как гипотеза первична. Сегодня на её слова о том, что человек начинается с устремлённости души, в который раз напомнил: "Душа – это не та категория, с которой мы можем работать, вы ищете соотношение идеи с реальностью, неба и земли, вы ищете Бога".
В следующий присутственный день разговор начался с того, чем закончился в предыдущий.
– В Дербенте, насколько я представляю себе горских евреев, можно говорить о Боге, но не в Москве, – заметил Ной Соломонович.
– Да, и мы сохранили традиции – в субботу не работаем, мясо едим только кошерное.
– И где же вы его берёте?
– Вскладчину покупаем быка или барана, специальный резник разделывает тушу, затем она делится на всех. Даже в маленьких сёлах и аулах есть резник скота.
– В Москве такого нет. Впрочем, может быть, старики при синагоге делают то же самое, не знаю. Посвятите меня в историю вашего края.
– Евреи пришли на Кавказ две с половиной тысячи лет назад, – Тайло с радостью стала вспоминать рассказы Гочи. – Сначала были вместе, потом разделились на горских и грузинских. Вторая волна беженцев приходится на восьмой век, когда отказались признать Мухаммеда пророком. Мы сохранили память Израиля, даже имена десяти колен Израилевых сохранились у нас в виде фамилий. Например: Ашеровы, Менашевы, Нафталовы, Беньяминовы и прочие. Когда царские чиновники выписывали в наших краях паспорта, то спрашивали имя отца, кто говорил Иван, того записывали Ивановым, Габриэля Габриэлевым, а дедушка мой был Давидом, вот и записали – Давидовы, на русский манер – Давыдовы. А у вас откуда фамилия Кац?
─ Я полагаю, мои предки получили её по наследству. Когда-то в давние времена у евреев не было фамилий. Мы назывались по отцу, меня бы звали Ной бен Соломон, то есть Ной сын Соломона. В России евреям, так же, как крепостным, фамилии давали по месту жительства, кто в каких округах жил. Поэтому среди нас есть Коломенские, Смоленские, Пятигорские, что означает – люди проживали в тех городах. Есть совсем уж неподходящие фамилии; Белоцерковский, например. Еще давали по роду занятий: Портнов, Сапожников. Фамилия "Кац", должно быть, производная от "Коэн". Но мы отвлеклись, вернемся в ваши края.
─ Я слышала, – вздохнула Тайло, – до тридцать седьмого года у нас была еврейская школа, театр. Потом закрыли, многих посадили, и евреи Дагестана перестали существовать как нация, стали татами. На татском языке разговаривают мусульмане северного Азербайджана, есть таты-армяне.
– Горские евреи, должно быть, пришли из Палестины?
– Говорят, из северного Ирана, я об этом знаю понаслышке. Наш древний язык в ходе переселения сменился арамейским, затем персидским, сейчас разговариваем на татском. Почему и называют нас татами, но это неверно. Мы обособлены от них. Из поколения в поколение передаётся память традиций. И наша религия не признаёт избранных, все призваны служить Богу.
– Антирелигиозные кампании у вас не ведутся?
– В начале шестидесятых годов попытались ликвидировать синагогу, тогда старики легли на землю и сказали: сначала убейте нас. Власти отступили. А вот в Грозном еврейской общине не удалось отстоять синагогу.
– В Дагестане есть антисемитизм?
– После Шестидневной войны в Израиле у нас стало трудней – в газетах стали появляться антисемитские статьи. Народ зол на евреев за то, что издеваются над палестинцами, то есть, мусульманами – братьями-арабами.
– Понятно отношение мусульман к евреям в связи с победами Израиля, – подхватил Ной Соломонович. – Но почему в христианской России сочувствуют арабам? Недавно прочёл в дореволюционном журнале статью Немировича-Данченко, "воинствующим Израилем" называл он горских евреев. Пишет, что они отличаются храбростью, владеют оружием, хорошо ездят верхом. Отмечает в вашей музыке древнейшие самобытные истоки. Это с одной стороны. С другой – вы, многие века живущие в горных аулах Кавказа, в некотором смысле схожи с единоверцами местечек России, откуда я родом. Та же в прошлом нищета, и замкнутость. Окружающие народы не давали нам забыть о своей чужеродности.
– Замкнутость – залог выживания, мы и сейчас жмёмся друг к другу – общая вера, судьба.
– Наше еврейство – в глубинах национального характера, – задумчиво произнес Ной, – в страхе греха, в душевном настрое на труд, преодоление тягот. Вот я и пытаюсь внушить своим сыновьям серьёзное отношение к жизни, ответственность. Однако мы отвлеклись, вернёмся к нашим проблемам. Вы хотите понять, что от чего происходит, соотношение причины и следствия. Понять бы ещё и волю Небес. Математики такой народ, ищут доказательство даже очевидных постулатов, например, бытия Бога. Работайте, потом скорректируем ваши выводы, подыщем приемлемую терминологию. Но согласитесь, как бы мы с вами ни старались, для идеи Бога трудно найти в материалистическом подходе адекватные слова. Задача непосильная, но мы делаем всё, что в наших силах; отказ от желания знать может стать причиной душевной лени, деградации.
Ной Соломонович замолчал. Молчала и его аспирантка. Она знала, – если научный руководитель сделал паузу, приостановив по комнате свой бег, значит, он принимает решение.
– Вернемся к вашим экспериментам, – наконец произнёс он, – вы в них невольно ориентируетесь на школьников, особенности психики которых сходны с вашими. Другой исследователь, в отличие от вас, будет ориентироваться на детей с иными характерологическими данными. И каждый будет прав.
– Абсолютная истина складывается из относительных, – улыбнулась Тайло.
Уходили из института последними. "Нет им покоя ни днём, ни ночью", – ворчала грузная на отёкших ногах сторожиха, запирая за ними парадную дверь. Теперь, когда в здании никого не осталось, она расположится на ночлег, и никто до восьми утра, пока не придёт уборщица, её не побеспокоит.
Тайло бредёт к своему общежитию. В темноте, придавленные усталостью, возвращаются с работы люди. "Вот и Гочи сейчас идёт домой. Одержимый историей, где он только не выискивал книги о разных странах, эпохах; сейчас с утра до вечера стоит у станка. У него дети – есть, для кого стараться". Вспомнился настороженный взгляд Ноя, его усмешка и готовность согласиться с планом её диссертации. Вдохновения от последнего разговора должно хватить на целых полторы недели; к неприсутственным дням на этот раз прибавятся новогодние праздники и выходные.
В праздники особенно ощущалась одиночество, неприкаянность, возникали сомнения в необходимости своих усилий. "Станут ли дети счастливее от того, что буду пытаться научить их думать, научить тому, чего сама не умею. Моё дело стараться, а там как получится. За десять дней составлю подробную программу экспериментальных уроков, учту разные психологические типы детей и постараюсь найти для всех общий знаменатель. С другой стороны, нужно ли искать этот общий знаменатель, если каждый выруливает на свою дорогу. Ничего гениального я не придумаю, только и могу, что откликаться на чужие мысли, – ассоциативное мышление. Сначала был Григорий Николаевич, потом Гочи. Сейчас Ной. Я заурядный человек, к тому же нетерпелива, быстро устаю и подолгу изживаю впечатления. Да и может ли человек выбирать себя, если всё складывается помимо его воли. Сколько одиноких женщин во всегдашних чёрных одеждах у нас в Дербенте. Юные вдовы без детей и семьи не нарушили клятву верности ушедшим на фронт мужьям. Так и не вышли больше замуж, да и выходить не за кого было, немного осталось после войны мужчин. Сиротство длиною в жизнь сделало их замкнутыми, пугливыми, верят в приметы, сглаз. Иногда кажется, будто я унаследовала их горечь, тоску нереализованных желаний – невольно вжилась в судьбы окружавших меня маминых подруг. Давно рассталась с детской мечтой найти формулу гармонии мира – всеобщего счастья. Всё, что в моих силах – это пытаться внушить своим будущим ученикам чувство справедливости, любовь к ближнему".
В ночь под Новый год Тайло не спалось и не работалось, мысли возвращались к новогодней ночи трёхлетней давности, когда она осталась с Сергеем одна. "Случись всё, как он хотел, у меня сейчас был бы ребёнок. У нас, на Кавказе, мужчина может иметь две семьи, а здесь должен выбрать одну женщину. И он выбрал. Не могла я вернуться с ребёнком домой, так что и жалеть не о чём. С каким жадным любопытством расспрашивали одноклассницы о московской жизни, казалось, им легче сочувствовать моему одиночеству, чем радоваться за меня. Кремлёвские куранты давно пробили полночь. Не спится. В голове какая-то каша, отпустить бы обрывки воспоминаний, уснуть…Удивительно чётко формулирует свои мысли Ной. Если на учёном совете кто-либо возражает ему или продолжает настаивать на своём, он просит точно обосновать своё несогласие. Оппонент после нескольких попыток сдаётся. Такое впечатление, будто шеф давным-давно продумал все возможные варианты".
Вдруг стук в дверь – пришла Марина с безумными глазами.
– Представляешь, он не пришёл!
– Придёт, куда он от тебя денется. Давай чай пить, а то мне одной невмоготу.
– Ты что, не понимаешь, он девку себе завёл! Думала, просто так отлынивает от встреч, а раз на Новый год не пришёл, обещал и не пришёл...
– Не найдёт он такую заботливую, как ты.
– У него там в Полиграфическом институте одни девки, любую выбирай.
– Ты тоже можешь выбирать, в твоём художественном ребят много.
– Я не могу без него. Сколько раз говорила себе: всё, хватит. Потом опять несёт к нему нечистая сила. Никакого удержу. Обхамит, измордует, а день-другой пройдёт, и опять невмоготу, хоть ложись да помирай. Ладно, ну его к чёрту! Давай выпьем! Завтра же пересплю с кем-нибудь, может, полегчает. Зато мать его любит меня, знает – я за её сыночком в ад пойду. Или жалеет, чует что к чему. Небось, тоже с ума сходила по его папаше. Да ведь и ты, как увидала его на холсте, невольно дотронулась. Значит, понимаешь. Вот и я не могла удержаться на беду свою.
– Искусство твоё понимаю. Ладно, давай чай пить, у меня пирожные вкусные есть.
– Какой чай, водку! – гостья поставила на стол бутылку.
–Ты такая талантливая, чувствуешь форму, цвет, всё вокруг наделяешь красотой, силой. Можешь отвлечься работой.
– Пробовала, не получается. Всё идёт вкривь и вкось. Напьюсь и спать залягу. А ведь как просила сменщика, чтобы мне не дежурить в новогоднюю ночь. И всё зря. Любовь – это как удар молнии – всё испепелит, изничтожит.
– Это у кого как, – бормотала захмелевшая Тайло.
Водка расслабила, заглушила тоску несбывшихся надежд. Старый в колдобинах ватный матрас, на котором до неё ворочались другие, показался теплой овечьей подстилкой. Всплыли сетования аспирантов из других секторов: "Тебе хорошо, что хочешь, то и делаешь, а у нас и тема исследования задана планом института, и литература соответствующая. Ной Соломонович идёт у тебя на поводу". Он у меня… или я у него… или…", – то были последние, прерывистые, как пунктир, мысли, которые размылись сном – небытием.
Едва проснувшись, Тайло поспешила к подруге. Как она там, вчера много выпила. Марина будто ни в чём не бывало, натягивала холст на подрамник и, между прочим, заметила:
– Под мужика можно лечь или от страсти, или от отчаянья.
– Ещё от любви, – добавила Тайло, рассматривая развешанные по стенам эскизы.
– Ну, как тебе мои последние работы?
– Правду сказать?
– Конечно.
– Раньше были лучше.
– Сама знаю, не могу сосредоточиться. И всё потому, что халтурку теперь на заказ делаю. Заработаю денег, куплю кооператив, в одной комнате мастерскую устрою.
– Хорошо бы, а то у тебя здесь повернуться негде. Всё картинами заставлено, и запах скипидара. Летом хоть окно можно открыть.
– Уже вроде как придышалась, не чувствую. Я ведь пробовала вышибить клин клином, заводила нового мужика, – вздохнула Марина.
– И что?
– Никакого впечатления, с другими у меня не получается. Исчез бы Славка с глаз долой, может, и полегчало бы, а то я этого гада каждый день в институте вижу. Он у нас ещё один семестр на постановке будет. Пишу и словно оглаживаю его, чувствую живот, ноги. Мою работу хвалят, из других мастерских приходят смотреть. Чтобы получилась настоящая живопись, надо влюбиться в натуру, почувствовать плоть. Кто бы объяснил силу красоты. Греки знали в ней толк…
А ведь я его барышню видела, ни рожи, ни кожи. За несколько дней до Нового года стояла у нас под дверью мастерской; маленькая, плюгавенькая. Я по сравнению с ней кариатида. Ладно, пусть так, всё равно будет мой. Куплю квартиру, и он ко мне жить придёт.
Все десять дней, пока Тайло не видела Ноя Соломоновича, она мысленно разговаривала с ним; делилась мыслями о том, что в будущем воплощении мы начинаемся с того, чем заканчиваемся в настоящем, и может быть, нам удастся раскрыть, наконец, тайну космических связей, случайных и не случайных встреч.
– Не путайте математику с метафизикой, – заявил Ной при встрече, – нам с вами даже для очевидных вещей требуется доказательство. Математика – безусловная и необходимая истина, которая, с одной стороны, априорна, с другой – дана нам в ощущениях; критерий достоверности знания в очевидности доказательства. – Состроив смиренно замолкнувшей ученице смешную гримасу, продолжал: – Не огорчайтесь, я так же, как и вы, считаю идею первичной, она предваряет реальность. Как у Декарта: "Идея Бога есть доказательство бытия Божьего". Но давайте вернёмся к нашим задачам: каким образом пробудить у школьников активный интерес к обучению, интеллектуальную интуицию; берётся ли она из опыта или является врождённой способностью. Под последней вы, уважаемая Тайло Хизгиловна, склоны видеть ту ступень духовного развития, на которой остановился человек в предыдущем воплощении.
– Я имею в виду и конкретный опыт, и предрасположенность – ориентацию души, иначе – память предыдущей жизни.
– Душа, как мы уже с вами говорили, не научная категория. Итак, делаем вывод: целостное восприятие подростка складывается из врождённых особенностей психики, социального окружения и памяти поколений. Я из коэнов, все с фамилией Кац, Коган, Каценельсон из рода священнослужителей – это к вопросу о памяти поколений. Скажется ли эта память на моих детях? А может быть, на внуках?
– Я слышала о коэнах. Коэном-священнослужителем становятся по праву рождения. Наши старики рассказывали: давно, ещё до революции, приезжал в Дербент какой-то человек, даже фамилию помнят, кажется, Каган. Община упрашивала его жениться на любой, самой красивой девушке и сделать мальчиков – коэнят. Он мог взять и несколько жён. Это его ни к чему не обязывало, он мог бы потом уехать. "Ты свободен", – говорили ему.
– Ты свободен, – повторила Тайло, и оба вдруг замолчали, оба почувствовали одно и то же – протяни он сейчас руку, и девушка из Дербента будет его.
В это время дверь распахнулась, вошла жена Ноя с тяжёлыми сумками в обеих руках. Она приостановилась, на мгновенье замерла, будто тоже услышала пение священнослужителей в общем для её мужа и Тайло древнем Храме.
– Вот тебе, – Жанна поставила сумки с продуктами и ушла. То было их всегдашнее разделение труда – она закупает продукты в гастрономе "Военторга", что в трех минутах ходьбы от работы мужа, приносит ему сумки, а он тащит их домой.
– Я нарушил заповедь, – в раздумье проговорил Ной, глядя на закрывшуюся за женой дверь, – коэны не должны жениться на девушках, побывавших в объятиях мужчины. Жанна, после неудавшейся связи с другим, видела во мне спасителя. Да ведь и меня никто не спешил осчастливить любовью. Наш брак был чем-то вроде убежища для двоих – мирное соглашение. И я не могу его нарушить. Всякое предательство – прежде всего предательство самого себя. Да, мы с Жанной разные…, но… как есть.
"Разные, – думала Тайло по дороге в общежитие, – она не знает, куда себя деть, чем заполнить свою жизнь. Ты сосредоточенный, вдумчивый, не можешь отвлечься от своих мыслей. Прямо с порога, не здороваясь, продолжаешь прерванный несколько дней назад разговор. Она размазня, ты резко реагируешь на отсутствие концептуального мышления. Не все выдерживают твои требования, случалось, уходили после первого же года аспирантского срока к другому научному руководителю. Не можешь скрыть страдальческой гримасы, раздражения, если не видишь живого интереса к науке. При этом самые большие требования предъявляешь к себе".
Три года обучения в аспирантуре прошли на одном дыхании, и при защите не оказалось проблем, да и какие могут быть трудности у аспирантки Ноя Соломоновича, одно имя которого вызывает у психологов почтение. Основные положения диссертации строились на теории немецкого математика, психолога и философа Лейбница, согласно которому математические способности предполагают не только рациональное, логическое мышление, но эмоциональную причастность к изучаемому материалу. В заполненной от нижнего до верхнего яруса главной аудитории института ни от кого не скрылось особенное вдохновение диссертантки, когда она цитировала Лейбница: "В уме нет ничего, чего не было бы изготовлено в тайных мастерских духа". Дух, склонность ума, то есть особенности мышления объяснялись материалистическими понятиями, а именно – новейшими нейрофизиологическими исследованиями мозга.
– Вот вы и выбыли из моих учеников, теперь мы с вами на равных, – так поздравил Тайло с защитой научный руководитель, ─ выбирайте: можете вернуться в свой Дагестан, а можете, в чём я очень заинтересован, остаться в нашем секторе готовить докторскую. Буду рад. У вас исследовательский склад ума, учиться вам интересно.
И Тайло осталась. Трудно в Москве одной, без семьи, но и в Дербенте ей делать нечего. "Я там, в родном городе, белая ворона. В прошлое лето мама упросила сваху найти жениха. Пришёл вдовец, медлительный, немолодой, с тремя детьми. Не возражала, по мне – чем больше детей, тем лучше. Сел у нас в доме, как барин, развалился в кресле, ноги расставил. Будто купец пришёл товар оценить. Мама смотрит умоляющими глазами. Солидному человеку некогда женихаться, нужно сразу ответить: да или нет. Но всё равно – о чём-то же надо говорить. Работает он агрономом на виноградниках, вот я и спросила – не практикуется ли в колхозе скрещивание разных сортов винограда. Сначала отвечал, потом почему-то стал злиться. Подумала: может у него неприятности с этими прививками, и заговорила о другом – о его детях. Вдруг он вскочил и закричал: "Что ты уставилась на меня!" Сначала растерялась, потом вспомнила: горская женщина не должна поднимать глаз на мужчину, тем более задавать вопросы. Но как распознать человека, если не поднимать глаз выше его башмаков. Увы, не вписалась я в эталон восточной женщины – стыдливой, покорной и невежественной. В присутствии гостя не должна была садиться и, уж конечно, согласно местному обычаю, следовало почтительно молчать. Таким образом, подтвердила бы согласие на непререкаемый авторитет мужчины в доме, его власть в семье. Не только у горских народов, но и у последователей Аристотеля в средние века, женщина, будучи несовершенной, то есть материей не наделенной интеллектом, должна знать своё место и удовлетворяться возложенной на неё ролью инструмента – подсобного рабочего.
Маму жалко. Постаревшая среди своих обветшавших во всегдашних чёрных одеждах подруг, она молча страдала; снова не суждено было сбыться её надеждам. Если кто и торжествует, так это жена брата, не упустит случая указать на моё неустройство когда-то обожавшим меня племянникам, вот мол, как не надо жить: погналась непонятно за чем и оказалась ни с чем. Нет у меня выбора: оставаться или не оставаться в Москве. Всё определилось само собой".
Тайло купила новый матрас, несколько книжных полок, и начался третий этап её пребывания в столице, теперь уже в статусе научного сотрудника. В остальном всё было по-прежнему, и тема работы та же: методика преподавания математики в школе. Задача состоит в развитии у детей интуиции, которая предваряет знание. Французский математик Анри Пуанкаре говорил: "Посредством логики доказывают, а посредством интуиции изобретают". По сути, у неё с Ноем Соломоновичем одна тема – проблема творческого мышления, где за предощущением следует интеллектуальное постижение, цепь умозаключений. Оба согласны в том, что обучение детей нужно начинать знакомством с вдохновением учёного, историей открытий; тогда появится интерес к предмету. Время идет, а девушке с гор всё так же кажутся праздником присутственные дни в институте – ведь у неё с Ноем полное взаимопонимание. Они думают об одном и том же; она начинает фразу – он продолжает её мысль, отвечая на ещё не заданный вопрос. С ним и молчишь об одном и том же.
Вот только трудно справиться с праздничными днями, когда библиотека закрыта. И вечерами непонятно, куда себя деть. Усталая голова отказывается что-либо воспринимать. Потом ужин в тягостном одиночестве и мучительная ночь, когда долго лежишь без сна и пытаешься собрать обрывки мыслей. В сумеречном сознании между сном и явью несколько раз повторяется одно и то же видение: идешь по бесконечному лабиринту из закопчённого красного кирпича, и нет выхода из петляющих стен лабиринта. Страшно. В такие минуты кажется – позови любой, и пошла бы, только бы не оставаться одной.
Так ведь звал. На втором году аспирантского срока случилось такое. И не дурак, но ум у него другой – чужеродный. Не было в Викторе, благоразумном человеке, её тоски по чему-то самому главному – запредельному. Казалось, выйди она за него замуж, и оборвётся дорога поиска, надежды. Не шла бы, как с Гочи, вглубь истории, когда прошлое просвечивает в настоящем. И не было силы притяжения внимательных глаз Сергея. Не было и слияния душ, которое случилось с Ноем. А что же было? Была благодарность за внимание, за то, что нёс в столовой её поднос с обедом, и было давнишнее желание избавиться от одиночества. Но этого оказалось недостаточно. И ещё Тайло не могла преодолеть своего представления о том, каким Виктор – научный сотрудник того же института психологии – станет через несколько лет. Именно таким он и стал: заматерел, вступил в партию и начал делать карьеру по административной части; папка с деловыми бумагами будто прилипла к его рукам. Не предвидела Тайло лишь того, что у светловолосого Виктора вырастут на носу чёрные волоски, взгляд станет стальным, холодным, женится на семнадцатилетней школьнице и будет держать её в строгом повиновении.
Нет, не раскаивалась засидевшаяся в девушках женщина, что пренебрегла вниманием человека другого склада ума и души. То было проявление инстинкта, ведь даже кошка не подпустит любого кота, тоже выбирает. Предчувствие чего-то важного, главного победило неприкаянность одиноких вечеров, страх остаться старой девой.
И снова весна. Тайло приводит в порядок свои записи и начинает ходить по магазинам в поисках подарков для мамы, племянников, Софико и её детей. Трудней всего выбрать подарок отцу. Чем порадовать немолодого кавказца: городских рубашек он не носит, портсигаром не пользуется. За толчеёй в магазинах и многолюдством московских улиц чудился шум наполненного растаявшим снегом горного ручья, запах влажной земли. Ещё неделя-другая – проклюнется зелёная завязь почек, и мир снова станет радовать своей новизной. И забудешь, что уже много раз снег выпадал и таял, дерево рождало и сбрасывало листву. Вот и дети не знают о поколениях, прошедших по этой земле. Все открывают для себя мир заново. С каждым в первый раз случаются: закаты-рассветы, стеснение и простор души. В Дербенте Тайло возвращалась к своему детству, юности, когда всё ещё только начиналось, мир расширялся и не было ощущения предела, конца.
При виде всего лишь нескольких ухоженных грядок среди запущенного огорода, осевшего с трещинами по стенам дома, Тайло почувствовала печаль человека, который уже ничего не может изменить в своей жизни. "Забрать бы маму с собой, но забирать некуда – не жить же ей со мной в общежитии". Ноами услышала мысли дочери: "Устроила бы ты свою жизнь, и мне станет спокойно. Много ли старому человеку нужно. Только деньги на себе не экономь, сколько бы ты ни возила племянникам подарков, всё равно это не твои дети, не примирится с тобой жена брата".
Через неделю-другую, утолив тоску по родным краям, пресытившись одними и теми же разговорами с бывшими одноклассницами о свадьбах, приданом, о золотых украшениях, которыми жених одаривает невесту, Тайло принялась за привезённые с собой книги. О чём бы ни читала, ни думала, – представляла, что бы сказал об этом Ной. Всего лишь едва заметный изгиб губ меняет выражение его лица. "Вот он в нетерпении вскакивает из-за стола и ходит по комнате, затем то ли себе, то ли мне, задаёт вопрос: "В какой степени математика обладает формальным, а в какой – содержательным знанием?" Я пытаюсь найти ответ: "С одной стороны, наши умозаключения не зависят от опыта, с другой – они опираются на чувственные данные. Идея первична. При этом идея не может возникнуть вне жизненного опыта, а возникнув, имеет не только субъективную, но и общечеловеческую значимость". Ной остановит свой бег и вернётся к разложенным на столе бумагам.
Мама всякий раз оказывается рядом, хочет насмотреться на меня впрок. Вспоминает, как я, маленькая, говорила, что буквы живые, какое слово захотят, такое и сделают. Маме и сейчас кажется, будто я ищу тайну букв и слов, иначе зачем всё время сидеть за книгами. А жизнь утекает, как вода сквозь пальцы, зачерпнёшь – и нет её. После девятого класса, когда летом жила у брата, сваха хотела привести жениха, сказала мне: "Ты не бойся, он красивый", а я даже не взглянула на него. И всё из-за Гочи".
Ещё не кончился двухмесячный отпуск, а Тайло уже начала собираться в Москву – гнало ожидание встречи с Ноем, какое-то беспокойство, тревога. "Маму жалко, но ведь ничего не изменится, уеду ли я неделей раньше или позже. Переживает ещё и потому, что не дождусь, пока созреет наша осенняя груша, инжир".
Поезд подошел к московскому перрону в воскресенье вечером. "Завтра понедельник – неприсутственный день, но он может прийти, – соображает Тайло, – в институте ему легче сосредоточиться, чем дома. И вообще не умеет отдыхать, устает от безделья. Мы и здесь похожи". Ещё не расставшаяся с кавказским солнцем и горными пейзажами девушка подняла с асфальта перрона свои сумки с банками варенья и спустилась в метро. В общежитии взяла у вахтёра, сумрачного старика, ключ от своей комнаты и в который раз пожалела о том, что не увидит больше на этом месте Марину. Та купила кооператив в новостройке, Славик сейчас с ней. У них уже годовалая девочка. Правда, Марина не знает, от кого: во время очередного Славкиного загула переспала с каким-то случайным мужиком. Дочку не любит, называет "подзаборной". А мать Славика говорит, что ребёнок похож на её сыночка, когда он был маленьким.
Вытирая скопившуюся за полтора месяца пыль, Тайло усмехалась своим неправдоподобным мыслям о том, что всякое может случиться – вдруг заглянет к ней Ной, зайдёт ненадолго. И потому в комнате всегда должно быть чисто, вот и шторы новые купила на случай его визита. Желаемое мы часто, не осознавая того, представляем действительным.
Утром следующего дня, войдя в институт, Тайло поразилась гулкой тишине здания. То было время отпусков, кто не уехал из Москвы, сидит на даче, тем более, день неприсутственный. И в отделе креативной психологии, судя по застоявшемуся воздуху, давно никого не было. На столе Ноя нет бумаг, значит, он не в Москве, а то всегда оставляет свои записи неубранными, чтобы прийти и сразу включиться в работу. "Мне без него тоже здесь делать нечего. Зря торопилась, ещё целых две недели могла быть дома". Тайло открыла окно, постояла в нерешительности и направилась в отдел кадров. Там всегда корректная Валентина Ивановна знает всё про всех: кого утвердили или не утвердили в должности, дату заседания ближайшего учёного совета и, уж конечно, когда у кого кончается отпуск. Знает и о том, кто сколько раз был женат. Однажды она заполняла анкеты научных сотрудников, выезжающих за границу на международную конференцию, где должна была указать имена не только теперешних жён профессоров, но и бывших. Когда дошла до анкеты Ноя, споткнулась, у него одного не было бывших подруг жизни. Работница отдела кадров в одежде неизменно розового цвета не поверила документам, пришла спросить у Ноя Соломоновича – правда ли, что у него до сих пор все та же жена.
Неожиданно в коридоре открылась дверь – вышла, как всегда экстравагантная, в коротенькой кожаной юбочке Таня из отдела психофизиологических различий. Они обрадовались друг другу, как два потерявшихся в пустыне путника.
– Вот уж не думала увидеть тебя в середине августа! – раскрыла объятья Таня. – Пойдём кофе пить, а то мне одной не хочется. И вообще паршиво, прямо хоть стреляйся от тоски.
– А ты что здесь делаешь летом?
– Сижу, как дура и обсчитываю показания датчиков, мне без них нельзя попадаться начальству на глаза, – Таня вскинула модно остриженную чёрную головку и походкой красивой женщины, на которую все оглядываются, направилась вниз по лестнице. Буфет находился в полуподвальном помещении и открыт был с утра до вечера, независимо от наличия посетителей. Всегда приветливая буфетчица средних лет обрадовалась их появлению и тут же предложила два двойных кофе – знала, кто что любит.
– Неужели во всём институте только мы с тобой? Все отдыхают? – спросила Тайло, как только они сели за столик.
– Ну, положим, тебя интересуют не все, а Ной Соломонович. Он в Ессентуках.
Очень стильная, тщательно ухаживающая за собой, Таня выглядела моложе Тайло, хоть они и были ровесницами.
– Почему именно в Ессентуках?
– Так ведь у него печень больная, – как само собой разумеющееся проговорила коллега. И вдруг ни с того, ни с сего заявила:
─ Замуж нужно выходить за человека с именем.
Помолчав, добавила:
─ А мне завтра аборт предстоит.
– Какой аборт? – не поняла собеседница.
– Обычный. От Пети, лаборанта из нашего отдела. Он симпатяга. Ради меня оставил жену с ребёнком. Представляешь?
– Представляю.
– Но у него ничего нет.
– А что нужно?
– Да ну тебя, – отмахнулась Таня. – Мне нужно всё! А у него зарплата сто двадцать рублей, платит алименты, и никаких перспектив. Правда, по темпераменту он мне подходит. Только для замужества нужен человек с положением, чтобы обеспечил безбедную жизнь. Не считать же рубли от зарплаты до зарплаты.
Праздничная, всегда ярко накрашенная, Таня живёт в центре Москвы, рядом с библиотекой Ленина, окончила университет, знает французский и английский. В институте она отстреливает самых красивых мальчиков. Ходят слухи, что и в постели берёт инициативу на себя; страстная, нетерпеливая, может изнасиловать и в лифте. "Суфражистка, – говорит о ней Ной, – ей бы ещё наган на боку".
– Мне нужно всё! – повторила Таня. – И никаких компромиссов: статус профессора и страсть молодого цыгана. Это вообще, а в частности, хочу попросить тебя завтра постоять ассистенткой при моем аборте.
– Как это?
– Врач придёт ко мне на дом, а ты будешь подавать ему инструменты, он скажет, что за чем следует. Да ты не бойся, я уже проходила такую операцию. В больницу ложиться не хочется, дома отлежусь день-другой, и без проблем. А сейчас нужно идти работать. Мне ещё начать и кончить, никак не выберусь из этих типологических различий. Ну вот скажи, судя по всему, ты меланхолик, а была бы сангвиником, что изменилось бы в твоей жизни?
– Наверное, я бы воспринимала мир иначе и изначально думала бы о чём-нибудь другом.
– Ладно, это долгий разговор, потом продолжим. Завтра приходи в институт к десяти, потом вместе отправимся ко мне.
– Приду.
– Спасибо, выручишь, а то все разъехались, попросить некого.
– Слушай, может, оставишь ребёнка, ты ведь сама себе госпожа и жить тебе есть где, зачем тебе избавляться от него?
– Ты с ума сошла! До завтра, не забудь – в десять.
Тайло вернулась в свой отдел. За окном – жестяной шелест затвердевших к концу лета листьев тополя. Обычно заваленный книгами и бумагами, а сейчас пустой, стол Ноя вызывал тоску, беспокойство. Закралась мысль: "Хозяин убрал свои записи и больше не вернётся сюда. А я без него ничто, как луна светит отражённым от солнца светом, так и я: пока Ной рядом, я что-то могу. Ну, и куда сейчас? В общежитие возвращаться незачем, но и здесь оставаться ни к чему. Вот, притащила ему банку кизилового варенья. Куда её теперь? Позвоню Марине, отвезу ей, а Ною принесу другую".
– Я к тебе сейчас приеду. Можно? – радуясь, что подруга дома, спросила Тайло.
– Можно, конечно. А ты откуда звонишь, такое впечатление, будто с вокзала, и тебе некуда приткнуться.
– Так и есть, приткнуться некуда.
Тайло спешила к подруге, будто там её ждало спасение от страха и ощущения пустоты в этом, так и не ставшем своим, городе. За окном автобуса, куда она пересела после метро, шел ряд серых, неотличимых друг от друга домов московской окраины, потом долго тянулся заросший рыжим бурьяном пустырь, и за ним, наконец, редкие шестнадцатиэтажные башни новостроек среди неубранного строительного мусора на развороченной земле.
– У тебя что-нибудь случилось? – спросила Марина обнявшую её гостью. – Ты ведь сейчас должна быть в своём Дербенте.
– Ничего не случилось. Вот варенье тебе кизиловое привезла.
– Замечательно! У нас кизил не растёт. Славик любит чай с вареньем. Ну а ты как?
– Всё так же.
– Долго ко мне ехать, знаю. Скоро здесь всё разровняют, посадят деревья, метро обещают. Наш кооператив первый подсуетился, я успела купить, пока квартиры были дешёвыми. Хорошо, что первый этаж достался, я люблю, когда к земле близко; палисадник заведу.
– Не нарадуюсь на твои хоромы, – гостья обходила одну комнату за другой.
– Ну да, целых три комнаты и прихожая большая. Я и не мечтала о такой квартире! Пойдём, мастерскую покажу.
Угловая комната с двумя огромными окнами показалась Тайло выплывающим в небо кораблём. Всюду на полу, на стенах Маринины рисунки. Теперь, как и раньше, Славик изображался в виде Эроса – бога эротической любви, правда, поникшего, потрёпанного.
– Эрос – воплощение не только эротики, но и мудрости. Так, во всяком случае, говорили греки, – заметила гостья.
– Насчёт мудрости он своё дело знает. Заработок на мне, дом на мне, а он лежит до полудня. Если попрошу сходить в магазин, отвечает: не мешай, я в астрал выхожу. Помнишь, Филя в общежитии всё в астрал выходил, вот и мой тоже.
– Хорошо устроился.
– А ты думаешь, зря его мать во мне души не чает. То сама сыночка содержала, теперь он на мне висит. Всё она понимает, старается помочь, вот и сейчас девчонку к себе взяла. Пойдём, покажу его работы. Тоже ведь художник, в Полиграфическом институте учился на художественном факультете. После третьего курса бросил – устал.
Окно в комнате Славика занавешено плотной шторой.
– Не любит мой ненаглядный солнечного света, у него могильный настрой и освещение соответствующее.
В полумраке на вбитых в стену гвоздях можно разглядеть рисунки – разные вариации умирающего алкаша: запрокинутая голова на длинной сморщенной шее, обвисшая кожа лица, судорожно сжатые пальцы и едва приоткрытые невидящие глаза.
– Жуть какая-то, прямо разложение. Не могу на это смотреть. Распад тела и души.
– Так и есть. Мается он, ищет себя и, конечно, пьёт. Рисует своё состояние. Вот здесь, смотри, изобразил себя доходягой, вроде живой, но уже мертвый. И ведь не дурак, стать античного бога, а воли к жизни нет. Случается, встретишь какого-нибудь сморчка, глядеть не на что, а ухватится за жизнь, не оттащишь, бьётся насмерть. Я иногда думаю, может, красивый торс – компенсация хилого темперамента. Как бы то ни было, не у меня одной любовь к искусству перенеслась на модель: художники часто женятся на натурщицах, ну, а я на натурщике.
– Где-нибудь работает?
– Иногда, если достану ему заказ оформить книжку. Я потом переделываю, а то у него очень уж мрачно выходит. Злится, называет всех быдлом, бездарями – не понимают его тонкой натуры. Иногда где-то пропадает неделями, я на всё закрываю глаза. Он ведь женился на мне беременной, и ребёнок непонятно, от кого. И квартиру бы мне без его московской прописки не купить. Ладно, что об этом толковать. Пойдём на мою половину.
После мрака Славкиной комнаты ослепил солнечный свет Марининой мастерской.
– Стой! Не двигайся! Удивительно, как я тебя раньше не разглядела. Чуть-чуть поверни голову направо, вот так, хорошо…, какой яркий румянец на смуглой щеке. И вся ты… Терпенье… ещё немного постой так… Теперь можешь расслабиться, но позы не меняй. На меня смотреть не обязательно. – Марина, поспешно набрасывала цветными мелками на картоне портрет подруги и, казалось, забыла обо всём на свете. Прошёл час-другой.
– Отпусти меня наконец, уже солнце садится.
Хозяйка оглянулась по сторонам, будто проснулась, бросила мелки и развернула картон.
Тайло замерла. Дело было не во внешнем сходстве, художница схватила главное: тяжёлые бёдра, узкие покатые плечи, большие выразительные глаза. Широкий разлёт сросшихся на переносице бровей напоминал крылья птицы. Рта не было, а в глазах – мука немоты. Так бывает, когда человек не может найти слова, чтобы сказать о самом главном.
– Да, тяжело тебе живётся, – вздохнула Марина, – трудно совместить рвущуюся вверх душу с грузной нижней плотью, тебе бы любить, детей рожать. И как это я раньше не разглядела твоего естества.
– Верно. Ты всё угадала. Чего стоят мои умствования, если жизнь – сама по себе.
– Не гадала, получилось само собой. Скажи, а если бы была нарасхват, стала бы заниматься своей наукой?
– Зачем нарасхват? Мне один был нужен, с ним, может, и не стала бы. Он историю любил, читал много. Я слушала его, словно живую воду пила. Теперь жду не дождусь своего научного руководителя, он помогает мне думать, даёт ощущение, что и я что-то могу. Не самодостаточный я человек.
– Разная у нас с тобой любовь, я не умствую, мне живая плоть нужна. Он, твой начальник, хоть съедобен?
– Для меня красивее нет. Рассказывал – в студенческие годы девушки не засматривались на него. Жена – рыба бесстрастная, немочь бледная, сама сделала ему предложение. Теперь – профессор с именем, со своим направлением в психологии, теперь он для каждой – лакомый кусочек.
Женщины пили на кухне чай, не зажигая света, всего лишь мерцал огонёк притушенной газовой горелки плиты. Время в сумерках, казалось, замерло; не нужно никуда спешить, что-то предпринимать.
– Раз мы доверились одному огню, почему бы нам не доверить друг другу свои мысли? – вспомнила хозяйка много раз упоминаемое подругой дагестанское приветствие гостя. Помолчав, продолжала: – Главное, ни на кого не рассчитывать. У нас под лестницей кошка живёт, время от времени вокруг неё вьётся стая котов, через три месяца на кошкиной подстилке котята пищат. Она их лижет, кормит, греет своим теплом, а котов как не было. Мы, бабы, надеемся: мужик привыкнет, привяжется к дому, а Славка как таскался, так и таскается. Как был ни при чем, так и остался. Женщины для себя рожают детей. Инстинкт? Пусть так. Но только не кошачий инстинкт, человеческий. Кошка потом бросит своих котят, у нас же всю жизнь душа за детей болит. Хреновый мужик мне достался. И всё равно, я ни о чём не жалею, хоть какая, да семья. А что хандрит и рисует всяких дохляков-наркоманов, так это – как есть.
– Наверное, ты права, – обняла подругу Тайло. – Пусть у тебя будет всё хорошо. Мне идти надо, уже поздно.
– А может, останешься, переночуешь?
– Нет, не сегодня, потом как-нибудь. Завтра с утра надо быть в институте.
– Жаль, мы редко встречаемся. Поговоришь с тобой и, вроде, как всё про себя поймёшь. Я провожу тебя. Слушай, а давай выпьем! Тяжко мне, это я так, хорохорюсь, а на самом деле, если мужик гуляет, тоска смертная.
Хозяйка достала с антресолей початую бутылку водки, должно быть, от Славика прячет, разлила по стаканам и залпом выпила.
Гостья тоже лихо опрокинула свой стакан, в котором плескалась живительная сила. В животе стало тепло, в голове – легко, а сидящая напротив Марина – самым близким родным человеком.
– Хорошо у вас, просторно – мебели нет. Не зря люди пьют – на душе легче.
– То-то я вижу: глаза у тебя повеселели.
– Надо идти, уже поздно, да и в своей норе мне привычней.
– Небо какое сегодня высокое, и звёзд много, – проговорила Марина, когда они оказались на улице.
– Много, – отозвалась Тайло, – я, когда маленькая была, хотела подняться на гору, чтобы звезду рукой достать.
– Слушай, ты пришла такая расстроенная, неужели только из-за того, что не застала своего шефа?
– Да как-то неспокойно, я ведь будто приросла к нему. Это ты пишешь свои картины независимо от того, есть Славик рядом, нет ли его.
– Не скажи, не встреть я Славку, может, и не нашла бы свою золотоносную жилу – красоту и притягательность плоти. У нас это называется "своя тема". Я это просекла с первого же этюда, который написала с него. Ты ищешь в мужчине ум, а я – красоту тела. Я перед тем как писать что-нибудь, дерево, например, любуюсь на него, мысленно оглаживаю ствол, а потом это ощущение живой силы, красоты ложится на полотно.
– Да, в тебе преобладает одно, во мне – другое, и неважно, как это называется: пытливость ума или инстинкт жизни.
"Только бы ничего не случилось, – мысленно повторяла Тайло, глядя из окна автобуса в черноту ночи. – Мы ведь обычно, не сговариваясь, оказывались после отпуска в Москве чуть ли не в один день. Не буду думать о плохом. Нужно расслабиться. Таня сегодня в буфете сказала, что у меня очень сосредоточенное лицо, это старит и не располагает к общению. Ничего ведь не случилось. Вернётся Ной, мы обсудим наши летние наработки. А пока устрою себе отпуск – поеду на пляж".
На следующий день после участия в Таниной операции Тайло никак не могла прийти в себя; она переживала чужой аборт как беду, нечто непоправимое. Не она уговаривала Таню потерпеть боль, а та, лёжа под ножом гинеколога, уверяла, что ей не больно. И валерьянка понадобилась не той, которой делали операцию, а ассистентке, свалившейся на диван в предобморочном состоянии. Гинеколог, большой мясистый армянин, знал своё дело, через два часа Таня примеряла новую кофточку.
В незаполненное до приезда Ноя время Тайло слоняется по магазинам, что оказалось вполне приятным занятием. Ситуация выбора кофточек, юбочек дает ощущение хозяина положения: хочу – куплю, не хочу – не куплю, своеобразная психотерапия. Правда, выбирать не из чего. В конце концов купила купальник, долго ушивала его, мерила, придирчиво глядя на себя в зеркало, и на следующий день отправилась на пляж.
Песок на пляже у Речного вокзала чуть ли не сплошь был покрыт распластанными на солнце телами. Близость чужих обнажённых тел почему-то вызывала особенно острое чувство отдельности, хотелось отойти куда-нибудь подальше. Не отыскав свободного пространства, устроилась рядом с немолодыми со сдобными спинами супругами. Те выкладывали на расстеленное полотенце куски курицы, яйца, помидоры – прямо как в поезде дальнего следования. Тайло отвернулась и стала смотреть на молодую маму, которая оттаскивала своего малыша от обстоятельно разложенной снеди. Ребёнок недоумевал по поводу такой несправедливости и снова норовил подползти к скатерти-самобранке. В стороне молодые люди играли в волейбол, можно было встать в их круг, но в волейбол Тайло не умела играть и вообще не была способной к спорту. Парни заговаривали с красивыми девушками, неприступный вид которых быстро сменялся призывным смехом. Тайло не уповала на свою женскую привлекательность. Вот и сейчас ей, непричастной к этому празднику жизни, ничего не оставалось, как молча войти в воду, доплыть до поплавков, означающих дозволенную купальщикам границу, и вернуться обратно. Потом устроилась поудобней, раскрыла книгу. Трудно было сосредоточиться, то и дело поднимала глаза на синюю гладь Московского водохранилища. Оно ничем не напоминало набегающие волны Каспийского моря. "Кто знает, не откажись вдовец от меня, счёл бы скромной, то есть достойной стать его женой, была бы я сейчас не одна на каменистом берегу нашего моря. Нет, всё равно ничего бы не вышло, для того, чтобы оказаться рядом с тем вдовцом, я должна была захотеть этого. Всё живое чувствует приязнь, притяжение; если я люблю собак, они мне платят тем же, чуть ли не каждая псинка подойдёт и ткнётся мордой, это я их мысленно зову, чтобы погладить. Вот и сейчас малыш, которому не разрешают приблизиться к соседскому пиршеству, смотрит на меня и расплывается в улыбке; мы с ним вроде как сообщники".
На следующий день Тайло поехала в Барвиху – не ограничиваться же одним пляжным днём, раз купила купальник. Про райский уголок – Барвиху, что недалеко от Москвы, она слышала давно. Говорили об этом необжитом дачном месте с придыханием, и от станции близко. Всё оказалось правдой. Тропинка среди сочных высоких трав привела к чистому, розовеющему под утренним солнцем озеру. Вокруг ни души. Если бы не выступающая из-за крон деревьев крыша дома, можно было бы подумать, что здесь давно не ступала нога человека. Живая вода обнимает, ласкает, и плыть в ней легко – сама несёт. В прозрачной глубине непуганые рыбки подплывают совсем близко. "Буду часто сюда ездить", – решила Тайло, наслаждаясь простором, ликующим пением птиц. И только она вышла из воды, как увидела спешащего к ней человека, он злобно кричал, угрожающе размахивал руками. Когда приблизился, стали различимы слова: "Пошла вон отсюда! Старая курва!" Расслабившаяся было купальщица подхватила платье и пустилась бежать. "Старая! Старая!" – кричал вдогонку рассвирепевший человек. То ли он разъярился от того, что место это было чьим-то частным владением, то ли от того, что девушка оказалась не первой молодости. Взбежав на пригорок, Тайло оглянулась: к озеру шли двое с полотенцами: он – толстый, пожилой, она – тоненькая, юная. Потом узнала: оказывается, забрела на дачу чуть ли не к военному министру, куда ему привозили девочек.
Ночью приснился страх – она в ожидании встречи с Ноем плавает одна в мутном незнакомом озере. Быстро темнеет, она шарит руками по дну – ищет свою затонувшую одежду. Нашла, вытащила на берег, но не может нащупать в илистом дне свои часы, а без них почему-то невозможно позвонить Ною. Снова ищет, не находит и в ужасе от безнадёжности просыпается.
Перед встречей с Ноем долго стояла перед зеркалом в новом платье, наконец, решила надеть прежнее, прошлогоднее, в нем было привычней – пусть всё останется по-старому, как было. Сегодня, когда он, наконец, должен появиться в институте, Тайло никак не могла сосредоточиться, что-то происходило помимо её воли, не давало возможности собраться с мыслями. То она чуть ли не бежала на работу, а то приостанавливалась, страшась чего-то, оттягивала свиданье. Вот она открывает дверь, и… они встретились глазами. Он ждал её. В следующее мгновенье перехватило дыхание, в горле застрял крик – увидела необычную желтизну его осунувшегося лица, во взгляде тоска, нежность... Так смотрят, когда расстаются навсегда.
– Ну вот, – усмехнулся Ной, – вы всё поняли, и не нужно ничего говорить, объяснять. Жаль, мы с вами вовремя не встретились. Разное наше время. Я намного старше вас, разминулись на целое поколенье. Главное, мы одинаково думаем, чувствуем. Или сначала чувствуем, потом думаем? У нас нет общих детей, зато идеи общие – те же дети, только не во плоти. В духе.
Увидев на столе шефа высокую стопку бумаг, Тайло поняла – это он для неё приготовил. Ей захотелось крикнуть: "Нет! Этого не может быть!" Но обычно разбросанные по столу, а теперь собранные листы, желтизна кожи, белков глаз...
– Только, пожалуйста, не говорите "нет". Вы знаете – никто, кроме вас, не подготовит к изданию мою последнюю рукопись. Пока я на ногах, давайте разберёмся, что к чему, наметим названия глав, параграфов. Не плачьте, прошу вас. Вот увидите, я и потом буду с вами. На книге поставите две фамилии – мою и вашу. Помимо устного завещания, вам – моему преемнику, оставлю доверенность.
– Вы сами издадите свою монографию.
– Итак, не будем терять время, не смотрите на меня такими глазами, вы же умница, – с нарочитой весёлостью проговорил Ной. – Вытрите слёзы, и вперёд! Всё хорошо, жизнь продолжается. Придут к вам ученики, и всё начнется сначала. Кому-то из них, так же, как и вам в своё время, будет казаться, что можно открыть формулу всеобщей справедливости. Мышление в запредельной области поднимает человека, даёт ему новое измерение. Да, кстати, завтра устраиваю пир с жареными куропатками из ресторана "Прага". Вы – главный гость.
Вечером следующего дня гости, именитые психологи, словно не замечали утомлённого вида хозяина, желтизну его лица – за роскошным праздничным столом присутствовала смерть. Все понимали – собираются они здесь в последний раз, однако старались шутить, смеяться. Тамада – высокий артистичный профессор Каган – провозгласил тост: "За нашего бесстрашного кормчего! Долгие лета! Вдохновения тебе, Ной!" Все знали – ни долгих лет, ни вдохновения, не будет, однако, подхватили тост: "За твоё здоровье!"
Моисей Каган часто возражал Ною – своему главному другу, однако, в основных вопросах их суждения совпадали: подчёркивая решающую роль воспитания, они доказывали значимость врождённых особенностей в развитии интеллектуальной активности. Уже в детстве, неосознанно, на основе биологических задатков, человек выбирает занятия и среду общения. Много подростков из неблагополучных семей ускользают от вредного влияния родителей. В то же время полное благополучие в семье не гарантирует духовной полноценности детей. Вот только рыжий Каган, в отличие от Ноя, утверждал, что помощь нужна не слабым, а сильным, то есть способным, потому как талантливый человек более уязвим.
Сейчас главный друг и вечный оппонент старался казаться весёлым:
– И что это ты размахнулся на яства королевские и вина заморские, – обвёл он стол широким жестом.
– Обмываю свою будущую монографию в соавторстве с бывшей ученицей, а ныне коллегой, Тайло Хизгиловной, – подхватил шутливый тон хозяин.
Головы повернулись к неприметной девушке, эдакой рабочей лошадке, ничем не напоминавшей резвую кобылицу, сорвавшую приз. Почему именно с ней Ной делится своей славой? Ведь каждый из присутствующих здесь счёл бы за честь поставить своё имя рядом с именем Ноя. В неверности жене его не подозревали, и меньше всех об этом думала сама Жанна. В нарядном вечернем платье, она призывала гостей веселиться, но веселья не получалось. "Жаль, наш младшенький уехал, а то бы сыграл нам сейчас на аккордеоне", – сетовала Жанна. Младший сын недавно женился, сейчас он с женой в свадебном путешествии на золотых песках Болгарии, а старший в экспедиции, он океанолог, по полгода живёт на корабле.
Когда изобилие заморских вин и необычайно вкусных ресторанных блюд притупило мысли гостей о близком конце хозяина дома, и все заговорили о своём, Ной увёл Тайло к себе в кабинет. Выдвигая ящики стола, показывал, где что лежит.
– Вам придётся самой собирать книгу, я часто делал пометки на отдельных листах. Вы знаете, что к чему, – справитесь. Будете приходить сюда работать, а захотите – возьмёте весь ворох бумаг к себе домой. Это потом… А сейчас, извините меня, я, будучи на положении больного, прилягу и не смогу вас проводить. И ещё: данные экспериментов на тему устойчивости внимания старшеклассников – на средней полке у нас в отделе. Загружаю вас своими проблемами.
– У нас общие проблемы, – проговорила девушка, не поднимая глаз.
– Если смогу, загляну на работу, ну, а если нет – берите всё на себя. Садитесь за мой стол и разбирайте теперь наши с вами общие бумаги.
Каждый день с утра до закрытия института Тайло ждала Ноя, вдруг появится в созданном им двадцать лет назад отделе эвристики – творческого мышления. Когда звонил телефон, вздрагивала, хватала трубку и сразу теряла интерес к разговору – то был не он. Наконец, не выдержала, позвонила сама. "Нойчик в больнице", – бойко ответила Жанна. Почему-то в её голосе Тайло послышалась усмешка, то ли по отношению к ней, то ли к мужу; вот она, неприметная серая мышка, скромная лаборантка, переживёт своего гиганта мысли; он уйдёт, а она останется. Впрочем, может быть, всё это только показалось, и никаких таких мыслей у Жанны не было.
Петлять по улицам, искать больницу Академии наук у Тайло не было сил, да и не терпелось увидеть того, кто наполнил её жизнь. Поймала такси и через пятнадцать минут стояла перед высокой белой дверью больничной палаты.
– Вот и вы, – глаза Ноя затеплились нежностью.
На него страшно было смотреть. Ещё больше пожелтевшая кожа, жёлтые белки глаз, вытянутое под простынёй истончившееся тело не оставляли надежды. В институте все знали диагноз – цирроз печени.
– Не пугайтесь меня, я всё тот же, вот только измучила боль. Ужасная боль, она оказалась сильней меня. – Ной закрыл глаза, его била дрожь, тело сотрясалось в ознобе, зуб на зуб не попадал. – Ничего страшного, сейчас придёт сестра и сделает обезболивающий укол… Удивительно, не могу представить себя мёртвым, может быть, и впрямь душа бессмертна. В детстве, когда бежал, казалось, ещё чуть-чуть и оторвусь от земли – взлечу. Хотелось объять весь мир, а сейчас складываю крылья… Девочка моя, если бы вы знали, ты знала, как я хочу, чтобы ты была счастлива. Если в мир приходит человек, выламывающийся из своей среды, то ему, как правило, плохо. Благополучных первопроходцев не бывает. Это не я придумал, так есть, за редким исключением. И я не был счастлив, делал по дому тяжёлую работу, таскал сумки, но думал о своём. Я был плохим мужем, не участвовал в жизни Жанны. С вами… с тобой – всё по-другому, мы думали об одном. Но любовницей ты не могла быть, только женой… – Ной говорил, изо всех сил сдерживая усиливающуюся дрожь. – Трудно быть счастливым, я знаю, но хотя бы не оставайся одна...
Ной закрыл глаза и, как в лихорадке, застучал зубами – у него больше не было сил сдерживаться.
Появилась санитарка со склянкой, что-то вроде искривлённой бутылки из-под молока с широким горлышком.
Тайло вышла из палаты. Стоя за дверью, видела, как санитарка вынесла наполненную густой зелёной жидкостью склянку. Такая моча исключала чудо выздоровления.
– Я на своём опыте в больнице сделал открытие, – заговорил Ной, как только Тайло вернулась в палату, – оказывается, смирение – производная от бессилия. – Он попытался улыбнуться, но улыбки не получилось. – И ещё к вопросу о врождённых способностях и бессмертии души: Платон прав – если человек способен к каким-либо наукам, то его душа при этом вспоминает то знание, которым она обладала до соединения с телом. Никто не знает о странствии своей души… Боже мой, как вынести эту боль. Спасибо тебе за всё, за то, что будешь помнить меня, – Ной застонал и после минутного молчания попросил: – Пожалуйста, скажи мне что-нибудь хорошее, удивительное…
Сами собой всплыли в памяти горянки стихи земляка Расула Гамзатова. И заговорила она, как песню запела, ведь именно этими словами вот уже несколько лет мысленно обращалась к тому, без которого не представляла себя:
Скалою стану, если ты
Волной морскою станешь
И белым гребнем с высоты
На грудь мою нагрянешь.
Землёю стану, если вдруг
Ты тучей обернёшься
И нежной влагой сотен рук
На грудь мою прольёшься…
Вошла сестра с наполненным шприцем и заявила, что ей нужна ягодица больного. Тайло отвернулась, а сестра, сделав своё дело, поспешно удалилась.
Ной успокаивался, затихал, в лице появилось что-то вроде блаженства.
– Любимая, – прошептал он, – всё хорошо, меня, замёрзшего, опустили в ванну с тёплой водой. Посиди ещё чуть-чуть… я засыпаю или впадаю в беспамятство, это одно и то же. Спасибо тебе. Не плачь… всё хорошо…
То были последние слова, которые Тайло слышала от своего наставника. Утром следующего дня постель Ноя в отдельной палате для тяжелобольных была застлана свежими простынями.
В тот же день в НИИ психологии Академии педагогических наук, в вестибюле напротив входной двери, повесили большой портрет в черной раме. Кто-то сфотографировал Ноя в момент, когда в его глазах появилась смешинка. Так случалось, когда он, непредсказуемый, собирался рассказать анекдот или выдать на лекции казалось бы парадоксальную, но неожиданно точную, мысль. В такие минуты Ной был особенно артистичен, образное, живое слово придавало его научным выкладкам особую убедительность. Слушатели включались в игру ума: как актеры, полагаясь на себя, оглядываются на режиссёра, так и они поверяли свои мысли аргументами Ноя.
Стоя перед портретом своего учителя, Тайло поняла – нет человека, ради которого стоит оставаться в Москве. Почему-то всплыл в памяти рассказ Ноя о том, что перед окончанием института и распределением все его сокурсники один за другим женились, будто страшились отправляться одинокими в дальнее плавание. Вот тогда-то Жанна и проявила инициативу. И он, по традиции еврейской семьи, где тянут свою лямку до конца, не ушёл от неё, и когда отношения давно изжили себя. Тайло мучило сознание вины, вчера нужно было остаться с ним до конца. Медсестра, которая сделала укол, сказала: "Теперь его не надо тревожить, будет спать до утра". "Я и ушла, а утром… Он, может, ночью проснулся, а меня не было".
Подошла в короткой кожаной юбочке Таня.
– На тебе лица нет. Он, что, спал с тобой? – спросила она.
Молчаливая неподвижная толпа перед моргом в больнице. Моросит холодный дождь. Знакомые лица словно одеревенели. Вынесли и задвинули в автобус закрытый гроб. "Прощание состоится на кладбище", – объявил распорядитель похорон. По обе стороны гроба сели самые близкие: жена, Тайло, всегда искрометный, на сей раз мрачный Каган, несколько бывших аспирантов и проверенные десятилетиями друзья. Сыновей не было, старший – Аркадий – не мог прилететь с дрейфующего в Северном Ледовитом океане корабля, а младшего мать пожалела – зачем мальчику омрачать свадебное путешествие.
На кладбище толпа провожающих, обтекая могилы, следует за плывущим на плечах друзей гробом. Перед вырытой могилой гроб опустили. Идёт дождь. Плачет Жанна. Капли дождя на лице Ноя. Могильщик ждёт, затем, словно стесняясь своей обязанности, заколачивает гроб. Люди стоят молча. Вскоре толпа редеет. Жанна держится за ученицу своего мужа, они возвращаются в автобус, где только что был Ной. Длинная обратная дорога в никуда. Автобус подъезжает к его дому, где жёны друзей организовали поминки. Молча рассаживаются, разливают водку. Посреди стола стоит фотография юного Ноя. "Это когда он учился на пятом курсе", – поясняет Жанна. Потом берёт фотокарточку и ставит перед Тайло, будто говорит: "Он твой".
Уходила Тайло с фотографией Ноя и толстенной папкой его бумаг.
– Последние два года он не выходил из своей комнаты, – жаловалась Жанна, стоя на пороге, – бывало, загляну к нему ночью, а он всё что-то пишет, думает…
Эта худая, нелепая женщина показалась на сей раз близкой, чуть ли не родной.
Дома Тайло разложила на подоконнике бумаги Ноя и в первый раз почувствовала чуть ли не физическое присутствие своего научного руководителя, будто переехал жить в её комнату. При виде огромной работы, которую ей предстояло сделать, вспомнились его слова по поводу тяжёлого будничного труда местечковых евреев и евреев Дагестана. Для тех и других жизнь представлялась бесконечным терпением и борьбой за существование; беды ориентировали на преодоление, а не на удовольствия и наслаждения. Награду за соблюдение Закона искали в сознании праведности.
Теперь всё время свелось к работе над рукописью. Исписанные до боли знакомым почерком листы создавали ощущение близости их автора – ведь мысли не менее реальны, чем физическая данность. Её детские представления о необходимости торжества справедливости Ной толковал как протонауку – ненаучное знание, являющееся первичной формой осмысления мира. Это интуитивное прозрение делало действительность производной мечты. Вот и передающееся из поколения в поколение ожидание Машиаха – грядущего золотого века – тоже из области мечты. Идея справедливости и добра стала теоретической моделью, но ведь математические и логические аксиомы тоже не имеют непосредственной связи с чувственным миром. Это предварительное, независимое от опыта знание. Согласно Платону, оно ни что иное, как воспоминание души об идеях, которые она созерцала до соединения с телом. У евреев подобная теория: ребёнок до появления на свет знал все истины Святого Писания, однако, родившись, забывает. Затем, в процессе учения, вспоминает.
Научные выводы Ноя перемежались его дневниковыми записями, размышлениями по поводу ограниченных возможностей человека, его неспособности прорваться к истине; однако поиск, ориентация ума связывают воедино наши дни. Он писал о желании изменить свою жизнь и о невозможности уйти от беспомощной Жанны, а то ведь пропадёт без него, неумеха. Часто повторялось слово "устал". Попадались сетования на отношения с детьми. Старшего, умного, но нетерпеливого и раздражительного мальчика, не мог приучить к ежедневному будничному труду, а младший – мягкий, улыбчивый – не ухватывал главного вообще и в школьных предметах в частности. Так распределила природа: одному, при отсутствии способностей, дала прилежание и хороший характер, другому – проницательный ум и взрывную, неадекватную реакцию на окружающих. За младшего Ной не беспокоился, боялся за старшего – трудно ему придётся при его нетерпимости. Судьба таких не балует, то ли за гордость, то ли за щедро отпущенные способности. Посредственности легче приспособиться.
Наткнулась Тайло и на запись о себе: "Пришла девочка с ярко выраженной восточной внешностью, вошла и молчит. Я её спрашиваю: "Вы к кому?" Отвечает: "К вам", и протягивает исписанные размашистым почерком листы. "Вы хотите заниматься креативной психологией?" В ответ одно слово: "Да". "Хорошо, я посмотрю ваш реферат". Девочка поклонилась и ушла. Смешная". В другой заметке: "Девочка из Дербента оказалась серьёзной, умной, схватывает всё с полуслова. Иногда мне кажется, что она подслушивает мои мысли. Смешно, но очень приятно". И далее: "Узнал о живущих в диких горах Дагестана народах: десять процентов русских, двадцать или двадцать пять процентов евреев, остальные мусульмане. Когда-то наш народ разделился; кто-то ушёл в горы – на Кавказ, кто-то в Европу. В следующий раз расспрошу подробней. Обычно я не веду доверительных разговоров со своими аспирантами, они как-то сразу теряют дистанцию и полагают, будто я стану вместо них писать их диссертации. А этой, судя по всему, ничего подобного в голову не приходит. Работяга, и мышление ориентировано на поиск, а не на стереотип. Интересно, что в Дербенте не забыли печальных историй о скитаниях нашего народа, помнят старинные обряды, песни, фольклор. Хочу и не могу представить эту уже не провинциальную, но ещё не столичную девушку счастливой – всегда сосредоточенная, она не умеет расслабляться. Впрочем, я тоже этого не умею".
Тайло вспомнила их первую, десятилетней давности, встречу. Если бы Ной не взял её тогда к себе в аспиранты, она бы уехала домой. Теперь, сидя с его бумагами, снова и снова переживала счастливое время их единомыслия. Перегруженный мозг работал и ночью; даже во сне сопоставлялись и анализировались обрывки текстов. Случалось, что записи, лежащие в стопке черновиков, оказывались важнее тех, что были приготовлены в окончательный вариант книги.
Часто звонит Жанна – жалуется на одиночество, на то, что теперь к ним, то есть к ней, никто не ходит. И детей дома нет; младшенький, её любимец, живёт у жены, Аркадий – в своих вечных экспедициях. Просит приехать, а то не с кем слова сказать.
– Приеду, – обещает Тайло, – вот только разберусь с книгой Ноя Соломоновича и приеду.
– И холодильник пустой, Нойчик всё приносил, готовил. Теперь я сирота. Ни к чему руки не лежат, – всхлипывает Жанна, – не бросайте меня.
Незаметно прошла зима, лето, снова зима. Работа над книгой, занимавшая все силы, окончена. Всё это время Ной был рядом – соглашался, возражал, в возбуждении ходил по комнате со своей всегдашней присказкой: "Вот такая получается петрушка!" Когда рукопись была отдана рецензентам, возникло ощущение пустоты – всё стало ненужным, зряшным. Всё чаще приходили мысли о том, что незачем жить в Москве с бесконечным потоком машин и незнакомых людей. "И мама дома одна. Ничего не изменится, буду я писать докторскую или не буду. Без Ноя исчезло чувство пути, научного поиска. Часто вспоминаются его слова: "Хороший учитель важней теоретика. Главное – разбудить в детях способность мыслить и тем самым сделать их жизнь интересной, значительной. Начинать нужно с постулата: математика – царица наук". Но вернуться в Дербент – значит, устраниться от научного мира, библиотек, и все вокруг будут вздыхать, сочувствовать, ставить мою неустроенную судьбу в пример своим детям – как не надо жить. А если останусь в Москве, один год станет похожим на другой; ведь всё, что могло случиться здесь, уже было".
В последнем письме мама просила помочь Фатиме – практикантке из Пищевого техникума. Из всех женщин на консервном заводе она почему-то выбрала именно маму, ей рассказала о своей беде. Фатима из села Ахты живёт в общежитии техникума, там же встретила мальчика, который клялся, что женится на ней. Шестнадцатилетняя Фатима не стала противиться его ласкам и уговорам. Теперь ей нужно избавиться от беременности. "У нас это невозможно, – писала мама, – здесь ничего не скроешь. Ты знаешь, чем это кончается у мусульман, отец убьёт её, в лучшем случае выгонит из дому. Нужно помочь девочке в такой беде. Москва город большой, поживёт у тебя неделю-другую, оправится после этой паскудной операции и вернётся – никто ничего не узнает. А то хочет руки на себя наложить. Грех какой, убить ребёнка тоже большой грех, только что же теперь ей делать".
Тайло представила себя на месте той девочки. Случись Гочи стал бы уговаривать её, тоже не устояла бы против его ласк. Вспомнила, как готова была бежать с ним хоть куда, только бы позвал. Он же рассказывал про село Ахты, откуда Фатима родом. Село это когда-то было еврейским, но завоевавшие Дагестан арабы огнём и мечом заставили жителей принять мусульманство. Гочи называл ещё несколько селений лезгин, в которых тоже когда-то жили иудеи. Говорил, там до сих пор хранятся древние еврейские книги и зажигают субботние свечи. Ахтинцев обратили в мусульманство сто пятьдесят лет назад, и за это время они переняли из ислама затворничество женщин и жестокость в отношении к нарушившим закон целомудрия.
Прочитав мамино письмо, "москвичка" тут же отправила телеграмму: "Пусть приезжает". В Москве и в самом деле нет проблем избавиться от ненужной беременности. Таня-суфражистка поделится своим знакомым гинекологом, он не только делает эти, как сказала мама, "паскудные операции", но и за отдельную плату предлагает зашить девственную плеву, то есть вернуть девственность. Тане это ни к чему, а вот Фатиме без этого не обойтись.
Прошло несколько дней, и вот Тайло стоит на платформе вокзала – встречает землячку. Колючий снежный ветер продирается сквозь пальто, люди запахивают полы, кутаются в шарфы. "Судя по Таниному опыту, немного времени понадобится, чтобы привести девочку в порядок, – соображает Тайло, прикрывая варежкой нос. – И с обратным билетом зимой не будет проблем". Поезд опаздывал. Встречающие заходили погреться в здание вокзала и опять спешили на перрон. Спустя полтора часа после назначенного времени сквозь снежную пургу высветился двумя прожекторами-фарами паровоз. Тайло почему-то заволновалась, будто предстояла встреча с родственницей или подругой. Состав, наконец, причалил к платформе, и из открывшихся тамбуров потянуло запахом овечьего сыра, сушёной дыни, хурмы – запахом дома. "Москвичка" с нежностью оглядывала выходивших из нужного ей номера вагона земляков; те выгружали и раскладывали на промёрзшем асфальте тяжёлые мешки, корзины. Фатиму узнала сразу, как только та появилась в проеме двери: невысокого роста, плотная, со сросшимися на переносице бровями. Невозможно было не отметить сходства с собой. Девочка смотрела робко, затравленно; готовая к жизни и смерти, она двинулась за своей, как сказала, "госпожой". Всем попыткам Тайло взять у неё переданные мамой банки с вареньем Фатима противилась, уверяя, что ей совсем не тяжело. В конце концов подчинилась приказному тону "госпожи" и отдала самую лёгкую сумку. "Проще сесть в такси, чем уговорить эту ослицу разделить груз поровну, да и круговерть в метро собьёт её с толку. Ещё, не дай Бог, потеряется" – подумала москвичка.
Фатима, забившись в угол машины, выглядывала оттуда, как пойманный зверёк, за которым вот-вот протянется чья-то беспощадная рука.
– Ну вот, мы и на месте, – стараясь ободрить девочку, весело проговорила Тайло, когда такси остановилось перед общежитием.
И снова Фатима ухватила всю поклажу, чтобы не утруждать «госпожу».
– Слушай, никакая я не госпожа, засмеют, если услышат. Зови меня по имени, как и я тебя. И иди рядом, не отставай, коридор широкий – поместимся. А вот и наша комната. Заходи, не бойся.
Гостья перешагнула порог.
– Теперь раздевайся, будем ужинать. Хочешь принять душ с дороги?
Фатима молчала.
– Пойдём, провожу. Двое суток в поезде – копоть, грязь. Знаю, не раз ездила. Мама всегда меня ждёт с баком горячей воды, а у нас в душе лей воду сколько хочешь. В вагоне холодно было?
Девочка кивнула.
– Вот тебе полотенце, рубашка, халат. Пойдём, покажу, как включать горячую и холодную воду.
Пока Фатима мылась, Тайло приготовила ужин. На этот раз её холостяцкое блюдо – яичница с сардельками было дополнено мамиными подарками – вяленой рыбой и домашним вином.
Отмытая и зарумянившаяся под горячим душем девочка казалась теперь очень даже хорошенькой – круглое славное личико, застенчивый взгляд.
– Садись к столу и ешь. – Тайло придвинула ей тарелку. Про себя же подумала: "На Кавказе рано выдают замуж, и в этом есть смысл – страхуют от подобных случаев. Интересно, от чего Фатима страдает больше, от того ли, что обманул её тот, который обещал жениться, или страшится предстоящего аборта".
– У вас большая семья? – спросила хозяйка, разливая чай.
– Нет, я у отца с матерью одна, больше детей нет.
– Обычно в сёлах по многу детей.
– У меня отец с матерью старые. Если бы отец взял вторую жену, тогда были бы ещё дети. Он инвалид, без ноги. В колхозе работает, чистит конюшни, лошадей кормит. Денег мало, не может привести вторую жену. Меня мама в сорок лет родила.
– И я появилась на свет, когда мама была немолодой, – вздохнула Тайло.
– И ещё, – в порыве откровенности открыла семейный секрет гостья, – отец не весь овёс отдаёт лошадям. Домой приносит, но только чтобы никто не знал, а то в тюрьму посадят. Мы кормим этим овсом кур, и мама возит в город на базар яйца. Там нас никто не знает и не спросит, чем мы кормим кур. Я без этих денег не смогла бы поехать в Дербент учиться. На стипендию ведь не проживёшь.
– Ты, когда техникум окончишь, кем будешь работать?
– Мастером по приготовлению консервов, – с готовностью школьницы ответила Фатима.
– Можешь сказать, чем отличается приготовление кабачковой икры от баклажанной?
Девочка стала рассказывать, будто отвечала затверженный урок.
– Молодец! Всё знаешь. А теперь спать, уже поздно.
В темноте, прислушиваясь к дыханию уснувшей гостьи, Тайло не могла избавиться от ощущения, что в комнате ещё кто-то есть. "Не двухмесячный ли зародыш Фатимы – будущий человек? Вернее, человек, которого не будет". Почудилось, будто она уже когда-то решала этот вопрос: родиться или не родиться ребёнку в подобной ситуации. Тогда страх, нежелание позора победили, и она ушла от решения. "Интересно, каким образом будущий человечек дышит?"
За окном чёрная непроглядная ночь, посвист ветра. Хорошо, когда рядом кто-то есть. Ещё год пройдёт и ещё год, ничего не изменится в моей одинокой опостылевшей комнате. Когда-то радовалась ей, думала, начнётся здесь новая жизнь. А жизнь всё та же; я усыхаю, я пропадаю в этих четырёх стенах. Мама не раз говорила: "Если не выйдешь замуж, возьми ребёночка, пока у меня есть силы на ногах стоять, я помогу тебе".
Утром, когда Тайло проснулась, гостья уже одетая сидела на застланной раскладушке, вопросительно глядя на "госпожу". Ей, наверное, представлялось, что они прямо сейчас отправятся на кровавую операцию, которая даст ей возможность жить дальше.
– Ты можешь и не делать аборт, – как бы между прочим, проговорила хозяйка, – моя подруга давно замужем, а детей у неё нет. Хорошая семья, обеспеченная, они с радостью возьмут ребёнка. И тебе грех на душу не придётся брать, и малыш будет жить. Сейчас, пока живот не заметен, можно вернуться в Дербент, скоро я тебе сделаю вызов из московского техникума твоего профиля, вроде как по обмену опытом из автономии Российской Федерации. Ты снова приедешь, но уже в качестве студентки. Окончишь техникум, вернёшься обратно с московским дипломом. Никто ничего не узнает.
Фатима, казалось, не понимала, или не могла поверить в такую возможность.
– Что тебя смущает? А ещё после родов можно зашить девственную плеву и ты снова станешь девушкой.
– И тогда я смогу выйти замуж? – оживилась гостья.
– Конечно, но эта операция дорогая. Те люди, что возьмут ребёнка, оплатят все расходы, а если будешь настаивать на аборте, никто этих денег не даст.
– Не буду… – покачала головой растерявшаяся от радости девочка.
– А сейчас я тебе Москву покажу. Куда хочешь пойти?
– В мавзолей Ленина, – мечтательно проговорила Фатима, – у нас никто Ленина не видел.
–Ты когда снова приедешь, мы с тобой в театр пойдём, в консерваторию. Сейчас та семья, что возьмёт маленького, денег тебе с собой даст, хорошо питайся, не экономь. Все дела по усыновлению подруга доверила мне, ты только подпишешь необходимые бумаги.
– Подпишу, – с готовностью подтвердила девочка.
Спустя несколько дней Фатима уехала, а у Тайло появилось ощущение, будто она сама вынашивает младенца. Всё сошлось один к одному. Работа над рукописью Ноя закончена, собраны и скомпонованы отдельные записи, сделаны переходы от одной мысли к другой, обоснованы выводы. Уже выверены и подписаны в печать гранки. Скоро выйдет книга, где она обозначила себя не соавтором, а редактором.
"В институте на меня смотрят, как на безутешную вдову Ноя. Вернусь в Дербент, буду работать в школе, как Григорий Николаевич, вести математику с пятого по десятый класс. Вот и Ной говорил: наши умствования должны быть реализованы в педагогической практике, в противном случае они ничего не стоят". Привиделся мерящий шагами комнату шеф. "Вот такая петрушка!", – сказал он и обрадовался, как, бывало, радовался удачному эксперименту. Потом снова заговорил: "Нужно быть среди детей, культивировать их души, интеллект, это даст им дополнительную степень свободы, сделает менее зависимыми от обстоятельств". Я тогда спросила: "А счастливыми их можно сделать?" ─ "Увы, – развёл Ной руками, – невозможно вычислить судьбу, но то, что в наших силах, мы должны делать. Элемент случайности не исключён. Ведь и нашей с вами встречи могло не быть. Впрочем, нет, наша встреча должна была состояться. Мы оказались на одном векторе: если два человека размышляют об одном и том же, они непременно столкнутся. Значит, в случайности есть закономерность. Это вообще, а в частности, невозможно предвидеть то, что с нами случится, как невозможно соотнести человеческий разум с разумом Провидения. В Екклесиасте, в размышлениях иудейского царя, помимо многократного упоминания о том, что "всё суета сует", есть слова о присущем человеку чувстве бессмертия и радости по поводу трудов своих". Я тогда ответила Ною: "Вот мы и будем с вами радоваться плодам своего труда, ориентируясь на бесконечность во времени".
Вспоминая тот давнишний разговор, Тайло утвердилась в решении уехать в Дербент; тем более, представилась возможность вернуться не одной, а с ребёнком. "Врач сказал, что, судя по сроку беременности, время рождения младенца придется на начало осени, канун праздника Кущей – праздника урожая, "когда уберешь с поля работу твою". В эти дни решается судьба человека, в мгновенье, когда воды реки остановятся, кто чего попросит у Бога, всё сбудется. Я попрошу здорового ребёнка".
Темнота за окном общежития становилась плотней, она отделяла от мира, запечатывала в одинокой комнате. На этот раз не нужно было загонять себя работой, чтобы усталость пересилила чувство пустоты, тревогу. "Сейчас всё определилось, расставилось по местам: в Москве сделала, что могла, а дома мама поможет вырастить маленького. Нас будет трое, это уже семья. Сгодится, наконец, люлька, которую мама хранит ещё с рождения брата. А чтобы никто не подумал, что родила без мужа и не пал бы позор на голову родителей, последние месяцы беременности Фатимы буду часто наведываться домой. Никто не увидит меня с животом, и никто не усомнится; не байстрюка привезла, приёмного. И на пляж пойду: смотрите, смотрите все: нет у меня живота.
Теперь нужно уговорить директора техникума, чтобы дал Фатиме вызов, и она переведётся в Москву, благополучно родит, будет учиться. Из всех средних учебных заведений, что нашлись в справочнике, больше всех подходит техникум общественного питания, там есть технологический факультет, почти по её профилю.
И вот сидит Тайло в просторном директорском кабинете с обязательными портретами вождей революции Маркса и Ленина, смотрит в непроницаемые глаза человека, который волен казнить или миловать. Тот недоумевает, с какой такой стати он должен брать студентку из Дагестана. Подняться и уйти просительница не может.
На столе директора справа листы с надписью синим карандашом: "Разрешить", слева красным карандашом: "Отказать". Если вдруг перепутаются карандаши, всё рухнет, исчезнет устоявшийся годами порядок.
– Не положено, – повторяет хозяин кабинета, бесстрастный человек в большом тяжёлом кресле. – Ваша племянница может поступать к нам на общих основаниях, сдать вступительные экзамены. Это всё, что я могу вам сказать. А то бы все так делали, устроятся на периферии, а потом заявятся в Москву – вот тебе здрасьте, возьмите, пожалуйста.
– Прошу вас… это особый случай…, девочка старательная, скромная, – Тайло ищет в глазах вершителя судеб отклик своей мольбе.
– Они все скромные до поры до времени, – директор придвинул к себе бумаги, давая понять, что разговор окончен.
– А если бы от вас зависела чья-то жизнь, вы бы… я вам не так рассказала, вернее, не всё.
По мере того, как Тайло говорила, глаза сидящего напротив, поначалу равнодушного номенклатурного работника, становились внимательными, участливыми.
– Понимаю, – вздохнул он, – со всяким может случиться. У меня дочка в возрасте вашей подопечной. В ваших краях такая дикость. Вот уж не знал.
– Сделайте доброе дело… – голос дрогнул, готовый сорваться на плач.
– М-да… Так как вы говорите, называется техникум, где учится эта бедолага? Оформим вызов, только зачислим не на третий, а на второй курс, с предоставлением общежития.
Уходила Тайло, пятясь спиной к двери, словно из синагоги, где вымолила милость небес. Только уже будучи в трамвае, почувствовала мороз. Сегодня обещали тридцать градусов – застегнула пальто и вытащила из сумки шапку.
Спустя месяц перевод из дербентского в московский техникум был официально оформлен, и Тайло снова стояла на перроне вокзала – встречала Фатиму. Переезд в Москву объяснила её родителям письмом о необходимости обмена опытом, мол, заинтересованы в национальных кадрах; приложила и копию разрешения на бланке с круглой печатью. Фатима рассказывала, что этот документ с печатью её мать показывала всем женщинам села – гордилась.
Пятиэтажное здание общежития из серого кирпича точно такое же, как здание техникума. Расположены они рядом, напротив Останкинского ботанического сада. Невдалеке пруд, усадьба Шереметьева с роскошным парком. И остановка трамвая совсем близко. Тайло с Фатимой поднялись на второй этаж общежития, без труда нашли указанный секретаршей директора номер комнаты. Там вдоль стен стояли застланные белыми покрывалами кровати, посредине комнаты стол. Все девочки оказались на месте, у них только что кончились занятия в учебном корпусе. При виде вошедших девочки сели на свои кровати и не сдвинулись с места пока Тайло не ушла. Свободной оказалась пятая кровать, или, как её здесь называли, "койка". Койка была у окна, там сильно дуло и, наверное, поэтому никто не соблазнился тем местом.
– Окно заклеим, – осмотрелась Тайло.
– Заклеим, – согласно кивнули девочки.
– Какой у вас замечательный парк за окном! Место спокойное, тихое.
– Тихое, – вздохнули девочки.
Ни к чему им была эта тишина. Они тут же поведали о том, что на их технологическом факультете только три мальчика, остальные девчонки. На бухгалтерском отделении пять мальчиков, а на холодильном – целых двадцать. Чуть ли не все студентки техникума приехали из сельской местности, периферийных городов или далёкого пригорода. Москвичей всего лишь несколько человек, и те на холодильном отделении. Обитательницы похожей на больничную палату комнаты с завистью смотрели на Фатиму: у неё в Москве есть тётя – именно так представилась им Тайло.
С течением времени поводов для зависти стало больше. Мало того, что Фатима уезжала на выходные к тёте, так ещё и посреди недели та наведывалась к ней, привозила вкусненькое, ходила с ней гулять в парк. Вдобавок ко всему выяснилось, что у Фатимы есть муж – полярный летчик; он приедет за ней через два года, а пока она ждёт ребёнка. Но через два года девочки уже получат диплом и уедут из Москвы, никому из них так и не доведётся увидеть полярника.
НИИ психологии без Ноя стал неприютным, чужим. Только теперь Тайло поняла: все эти годы её вдохновлял искромётный ум шефа. Сейчас же вдохновение угасло, улеглось, как подстреленный зверь. А её детское желание найти математическую формулу гармонии мира – всего лишь мечта, подобная ожиданию Машиаха. "Ум человека – не ум Бога. Даже проницательность Ноя не сделала его счастливым. Значит, только и остаётся делать то, что можем. Я могу вырастить ребёнка с маминой помощью, она рада моему решению".
Когда до родов Фатимы оставалось совсем чуть-чуть, Тайло поехала к Жанне прощаться. Уже полгода, как Жанна перестала звонить, должно быть, потеряла надежду на визит бывшей ученицы мужа. Дверь открыл незнакомый упитанный мужчина, похожий на сома. Казалось, он дремал под корягой в тихой заводи, вдруг высунулся и пошевелил усами. Тайло отступила, решила, что ошиблась квартирой. И тут же послышался необычно звонкий голос Жанны:
– Заходи! Заходи! Сто лет не виделись, совсем пропала. Вот, познакомься – мой муж Женечка.
– Жанночка, что же мы держим гостя на пороге. Проходите, пожалуйста.
Тайло не узнавала дом, в который ходила более десяти лет. В прихожей не было навалено ни разносезонной обуви, ни сумок, на вешалке не громоздились вперемешку шубы и летние плащи. В гостиной на столе – чистая скатерть, а когда мимоходом заглянула на кухню, не поверила своим глазам – раковина сияла белизной, и в ней не было привычной горы грязной посуды. И куда девалась апатия Жанны: раньше посуда мылась кем-нибудь из домашних, когда уже не оставалось ни одной чистой тарелки. И бельё на верёвке не брошено как попало, а аккуратно развешено.
– Мы всё делаем вместе, в четыре руки, – ответила хозяйка на немой вопрос гостьи. – У меня теперь с мужем всё общее. – И тут же хихикнула, – спальня тоже.
"У них общая спальня, а у нас с Ноем общие мысли", – с тоской об ушедшем подумала Тайло.
– Женечка, что у нас сегодня на ужин? – спросила Жанна и обратилась к той, которой из года в год принадлежало внимание бывшего мужа. – Представляете, мой Женечка любит готовить. Я счастливая женщина, даже не думала, что такое бывает.
– Вам повезло, вы нашли друг друга, – отозвалась Тайло. Про себя же подумала: "А я рядом с собой никого, кроме Ноя, не могу представить – слишком высока поднятая им планка. Он заражал своей уверенностью в правоте, бесстрашием. А рыхлый медлительный Женечка, в отличие от Ноя, не пойдёт на баррикады".
─Я, с вашего разрешения, зайду в кабинет Ноя Соломоновича, посмотрю книги.
– Да, да, конечно. Хорошо, что вы пришли, а то мы с Женечкой вызвали оценщика из букинистического магазина, никто ведь у нас в семье психологией не интересуется. Мне Ной говорил, чтобы вы взяли из его библиотеки всё, что захотите. Я тут закрутилась, забыла вам позвонить.
Тайло стояла в пыльном кабинете шефа, судя по всему, сюда давно никто не заходил. Крепилась изо всех сил – только бы не закричать, не завыть в голос: "Бедный, бедный ты мой! Ты думал, она беспомощная, пропадёт без тебя". Оглаживала ладонями корешки книг на полках, словно прикасалась к их хозяину. Выбрала те, в которых больше закладок; там, на полях, Ной делал свои пометки. Взяла столько, сколько могла унести – больше ей в этом доме не бывать. Поспешно, чтобы не разрыдаться, простилась с Жанночкой и Женечкой, они стояли в дверях, держась за руки.
На улице можно было не сдерживать слёз: "Зачем, кому нужна была его верность?!"
К моменту появления младенца на свет Тайло взяла Фатиму к себе и не отходила от неё, пока ту не увезли в роддом. Документы на усыновление, вернее, удочерение – родилась девочка, помогла оформить Таня-суфражистка. Один из её бывших любовников был адвокатом. Таня же задействовала своего гинеколога в операции по возвращению Фатиме девственности. Из роддома Фатима вернулась в своё общежитие и всем сказала, что приехали родители мужа и увезли маленькую в Дагестан. Тайло и в самом деле уехала с новорожденной в Дербент, и все там знали: не нагуляла она свою девочку – чужую взяла. Чужую можно – богоугодное дело.
Крохотная Рути, всего-то два килограмма четыреста граммов, лежала в старой люльке в пелёнках, которые мама сохранила с рождения своего первенца, и смотрела на Тайло черными осмысленными глазенками. Сосредоточенный взгляд младенца вызывал недоумение, казалось, Рути хмурится, против чего-то протестует. Когда подносили бутылочку с соской, – ела, не отводя при этом взгляда с того, кто её кормил. Она, в отличие от других детей, никогда не плакала, но и не улыбалась. "Может быть, сердится на меня за то, что я увезла её от матери, той даже взглянуть на неё не дали, – думала Тайло. – А может быть, страх, переживания матери передались ребёнку? Но ведь в последнее время Фатима успокоилась, поверила, что всё обойдётся. Я ей сказала, что уезжаю работать в другой город. Восточные женщины не задают лишних вопросов – Фатима не спросила, куда. Ей очень понравился мой прощальный подарок – золотые сережки с рубинами; рубины искусственные – какой-то сплав, но серьги красивые; длинные с подвесками, какие у нас носят".
Тайло начала преподавать математику в той самой русской школе, где училась сама. Прежняя математичка ушла на пенсию, она давно собиралась, но заменить её было некем. Оказавшись первого сентября на школьном дворе среди бурлящей детворы, новая учительница растерялась, будто и не прошло тридцати лет с того первого сентября, когда подошла здесь к ней рыжая Софико. Всё так же галдели дети, суетились родители первоклассников, поправляя им бантики, воротнички. Тайло вспомнила себя той, что озиралась по сторонам в ожидании чего-то необычного. Вспомнила, как замирала душа, когда слушала приобщившего её к гармонии чисел Григория Николаевича. Теперь, оказавшись в роли своего главного школьного учителя, невольно ощутила себя идущей по проторенной им дороге.
Удивительное переплетение судеб: Григорий Николаевич рассказывал, что во время еврейских погромов его мать-дворянка прятала у себя в сарае евреев со всей округи, а когда погромщики направлялись к её усадьбе, выходила им навстречу с высоко поднятой над головой иконой и со словами: "Идите, православные, с миром, здесь нет жидов". А сейчас еврейке, которая разделила устремлённость ума её сына, предстоит в этой школе доработать до конца и передать эстафету своего первого учителя.
Школа, как и тридцать лет назад, была многонациональной: черкесы, ингуши, чеченцы, адыги, евреи, были дети и из семей, где мать русская, а отец кавказец. Русские женщины открыты для смешанных браков.
Первый урок оказался в восьмом классе, где новая учительница, не вглядываясь в лица присутствующих, что обычно делала при первом знакомстве, начала чуть ли не с порога:
– Математика – царица наук, числа – основа творения мира.
"Сначала нужно заинтриговать учеников, – говорил Ной, – потом, пока их внимание не ослабло, следует обозначить проблему, бросить им кость – пусть грызут".
– Вычисления, измерения в любой области проверяются математическими расчётами, – продолжала Тайло. – Математические построения относятся не только к конкретным материальным предметам, но и к предварительным, интуитивным знаниям, чувствам, предчувствию…
– А если я ничего не чувствую? – выкрикнул кто-то из глубины класса.
– Наши чувства развиваются по мере приобретения знаний и тех задач, которые мы перед собой ставим. Альберт Эйнштейн, создатель теории относительности, ориентировал ум человека на бесконечный поиск; бесконечен путь познания.
– Эйнштейн гений, гениями рождаются, – заметил сидящий на первой парте мальчик в очках.
– И рождаются, и становятся. До гениальности нужно доработаться. Воля первична, ибо бесхарактерность может стать причиной душевной лени, и тогда не помогут никакие способности. Главное, чтобы возник интерес к предмету. Эйнштейн мотивацию своей научной деятельности во многом объяснял тем, что, когда он возвращался из школы, мать спрашивала его: "Сколько умных вопросов ты сегодня задал учителю?" Конкретная сумма знаний важна, но ещё важней научиться думать. Это относится не только к математике.
Тайло выносила на всеобщее обсуждение вопросы, с которых, по её мнению, начинается интерес к предмету. Так она надеялась завоевать доверие подростков, и тогда у них получится откровенный разговор, почти на равных. При этом нетерпеливым ученикам следует ответить тут же – иначе они застревают на своей мысли и перестают следить за ходом объяснения. Другие, менее страстные, могут притормозить желание немедленно получить ответ. Есть и те, что вопросов не задают, – прилежно учатся и одинаково успевают по всем предметам. А тех, которые не могут сосредоточиться на уроке, – думают о чём-то постороннем, мечтают, – не нужно трогать, они сами домечтаются до главного в себе. Самыми трудными учениками оказываются скучающие: не желая прозябать в одиночку, они тормошат других, отвлекают внимание на себя.
Если в старших классах можно культивировать интеллект, то пятиклассникам нужно дать ощущение душевного участия и таким образом вызвать интерес к предмету. Вспоминая себя в двенадцать лет, Тайло понимала, что по мере того, как ребёнок начинает обособляться от окружающих, он осознаёт cебя. При этом она невольно наделяла детей своим чувством тревоги, беззащитности. Всегда торопила время, хотелось скорей пойти в школу, потом ждала каникул, потом…, потом…, но потом было всё то же.
Дни учителя мелькают быстро. Отождествляясь со своими учениками, не замечаешь, как проходит собственная жизнь. Дочка уже встала на ножки, и даже начала говорить отдельные слоги. Первым её целым словом оказалось "по-ка-кал". У ребёнка были запоры, то ли от искусственного кормления, то ли наследственная особенность. Когда наконец свершалось долгожданное действо, Тайло радостно восклицала: "Покакал! Покакал мой птенчик!". Всё повторялось: глядя на Рути, вспоминала себя. Как она когда-то обращаясь к телёночку, думала, что и он человек, только не умеет разговаривать, так и Рути сейчас подолгу стоит перед осликом из соседнего двора, просовывающим морду сквозь прутья изгороди.
Глядя на Тайло с дочкой, нельзя было не заметить их внешнего сходства: чёрные вьющиеся волосы, срастающиеся на переносице брови, серьёзный взгляд. Странно было видеть у ребёнка не по-детски внимательные глазёнки. Особенно усердствовала в отыскании сходства Софико, должно быть, хотела смягчить отсутствие у подруги собственных детей. Мамины подруги, те, что остались после войны одинокими вдовами, считали девочку и своей внучкой. Раз родители неизвестны, значит, Рути в каком-то смысле ничейная, то есть её можно любить всем.
Большая нагрузка в школе, бесконечная проверка тетрадей не оставляли времени для размышлений о проблемах, выходящих за пределы сегодняшнего дня. Ной виделся во сне одиноким деревом. Она шла к нему, но расстояние между ними не сокращалось. Иногда слышала во сне его голос: "Математика имеет дело с сущностями. Чем больше что-либо заключает в себе совершенства, тем ближе к сущности". Во сне же силилась понять, от кого она в первый раз слышала эти слова – от Ноя или Григория Николаевича. В конце концов, просыпалась и обнаруживала рядом с собой Рути. Девочка ночью перелезала к ней из своей кроватки.
Случалось, воскресала во сне маята в комнате аспирантского общежития, вобравшей в себя энергетику, или, как говорят, ауру предыдущих обитателей. За стенкой чудилась возня соседа с очередной подругой – ну никак не всплывало в памяти его имя. Во сне же хотелось домой. Приснился Сергей-геолог, уставленный дорогими винами стол в ту новогоднюю ночь, когда должна была случиться и не случилась их близость. Вот они вдвоём подошли к ручью, и вдруг оказались перед надвигающейся огромной волной. Тайло проснулась. "Всё хорошо, – решила она, – мама здорова, вот и сейчас ступает тихо, почти неслышно – готовит завтрак. Не хочется вылезать из тёплой постели, как в норке лежишь. Тут же посапывает Рути. Удивительно, целый день она проводит с мамой, а стоит мне переступить порог, сразу бросается ко мне.
Зима в этом году особенно снежная. Утром на рассвете снег голубой, а дым из печных труб синий. По запаху дыма можно различить, чем топят. Самый вкусный запах от подсолнечной шелухи. От бука и ольхи дым гуще, но запах слабей. Судя по не проспавшимся мордашкам детей, что бредут в школу, им тоже не хотелось вылезать из постели. Как рано проявляется характер – обидчивость, честолюбие, простодушие. Невольно вживаешься в состояние своих учеников. В старших классах непосредственность часто сменяется неуверенностью в себе, растерянностью. Я стараюсь внушить подросткам: для того, чтобы реализоваться, утвердить своё "я", не обязательно быть первым – главное, найти своё дело, и тогда вы будете меньше зависеть от обстоятельств. Достойные отношения с людьми возможны, если вы сделаете себя, станете личностью. Конечно, своё дело и мечта о счастье – разные вещи. В мечтах я видела себя женой Гочи, наши с ним дети едва помещались за большим столом. И тогда я бы не поехала учиться, его ума хватило бы на всех. Счастья не случилось, значит, нужно радоваться тому, что есть, и делать то, что в моих силах".
Ни в одном классе не было мальчика, похожего на Гочи, – тихого, вдумчивого. Учительница с тоской смотрела на последнюю парту, где сидел он. Сейчас там развалился воинственный Махмуд, чуть что не по нём – пускает в ход кулаки. Мусульманские дети, как тридцать лет назад, так и сейчас, чувствуют своё главенство, они хозяева на этой земле. Евреи, хоть и живут здесь веками, – народ пришлый. Русские держатся индифферентно, они на особом положении – местная интеллигенция: врачи, инженеры – в основном, из русских. "Если не смотреть на задирающего всех Махмуда, можно представить на этом месте Гочи и почувствовать себя той прежней, ищущей повода оглянуться на последнюю парту. Так мало разнятся чувства подростка и взрослого человека. Да и разнятся ли? Всякий раз, проходя перекрёсток, где мы с Гочи иногда встречались по дороге в школу, невольно смотрю в сторону, откуда он появлялся... А Ной умер. Умер ли? До сих пор память возвращает его слова: "Умница вы моя, подарили мне прекрасную идею". Интересно, он и в самом деле так думал или хотел ободрить меня, внимающую его словам?"
Портрет Ноя, ту самую увеличенную его студенческую фотографию, что отдала Жанна на поминках, Тайло повесила над кроваткой Рути. "Это твой папа", – сказала она дочке, когда та уже поняла, что кроме мамы должен быть и папа. К пяти годам Рути похорошела, строгий взгляд, что был у лежавшего в люльке младенца, смягчился. Однако, как тогда, так и сейчас, девочка никогда не плакала.
Рути в короткой клетчатой юбочке с копной чёрных кудрей прыгает козочкой вокруг Тайло, бежит вперёд, оглядывается на маму, ждёт, пока та подойдёт, потом снова убегает. Только у неё одной из всех знакомых детей мама учительница. "Мама всё про всё знает. Мама водит школьников к морю, в горы и меня берёт с собой. Мы уже не раз поднимались высоко-высоко и смотрели вниз на наш город. Он и вправду похож на дракона – огромная голова лежит на горе, как на подушке, а ноги, то есть хвост, плещется в море. Больше всего мне нравится потухший вулкан, два его рога достают до неба. И вовсе он не потухший, просто притаился, и, если его рассердить, он выстрелит огнём. Самое страшное место в городе – мечеть Джума, туда когда-то согнали много людей, и, чтобы их поймать, если убегут, выкололи им для отметки один глаз и заставили строить мечеть. Страшно проходить мимо того места, страшно увидеть там гору выколотых глаз. А вулкана я не боюсь, и крепость тоже не страшная. Мама говорит, крепость спасала людей от кочевников; кочевники это те, у кого нет своего дома. Только мне одной мама сказала, что слово "Дербент" принесли сюда евреи, оно означает "ворота". Мы с мамой евреи, и бабушка с дедушкой тоже евреи. Бабушка считает дни, что остались до праздника Песах. Скоро мы вместе будем белить печку, и чистить песком кастрюли. Мне купят новое платье. Дедушка принесёт мацу, а бабушка станет раздавать бедным деньги, потому что у каждого доброго дела есть добрый ангел, а у злого – злой. Волшебник Элияху нарядится нищим и придёт как бедный старик. На свадьбе сына Софико самого бедного человека посадили рядом с женихом и невестой, потому что он – главный гость. А ещё Элияху называют Ильёй-пророком, он может прийти после окончания субботы, и, чтобы принять гостя, мужья приказывают женам варить хинкали. Тот, к кому придёт Элияху, становится ужасно богатым. А мы не очень богатые, потому что у мамы нет мужа и некому приказать ей варить хинкали".
Тайло не нарадуется на свою девочку – читает книги, хорошо учится, особенно легко ей даются языки. Строгий, словно требующий к ответу взгляд чёрных глазёнок Рути сменился открытым, любящим. В особенно радостные минуты Тайло вспоминала Фатиму, мучила совесть, ведь обездолила её, забрав такое сокровище. Отец когда-то, глядя на спелёнутую в люльке Рути, сказал: "Вот тебе и опора на старости лет".
Отец умер внезапно. Накануне в пятницу приходил к прежней семье, долго смотрел на зажжённые Ноами субботние свечи. В свой пустой дом с тех пор, как сын живёт в русской глубинке, не спешил. Сын, отслужив армию, поехал в Рязань навестить родню матери, там и женился на высокой, похожей на мать, голубоглазой блондинке. И будто не было у него в чёрных горах Дагестана отца-иноверца. Старый Хизгил не мог удержать дома и свою молодую, независимую жену. А Ноами смотрела на него в тот вечер, как и всегда, с нежностью, словно забыла, что он уже давно не ее муж. Потом отец тихо встал и ушёл – будто приходил прощаться. Ночью умер. Жена вернулась домой поздно, застав его мертвого, ушла – боится покойников. И отец лежал один. Мама ужасно плакала, кричала, если бы знала – сидела бы с ним, а то металась в запертом доме его освободившаяся от тела душа – в последнем и самом страшном одиночестве.
Хоронили отца на горе на старом еврейском кладбище, там же, где похоронены его отец, дед и прадед. Идти туда нужно по заброшенной, усыпанной камнями дороге. Дорога поднимается вверх к небольшой площадке. Там – вкривь и вкось вросшие в землю известковые памятники с обращёнными к востоку еврейскими письменами. Никто, даже старики из синагоги, не могут прочесть выветрившиеся буквы забытого языка. Отец однажды водил сюда Тайло, показывал место фамильного захоронения. Тогда же рассказывал о когда-то расположенной невдалеке высокогорной деревне; евреи спасались там от мусульманских набегов. Спустились только при русском владычестве – при Петре Первом. На горе и хлеб не растёт, и воду туда поднимать трудно. "Древнее кладбище, древние евреи. Почему, собственно, древние? – думала Тайло. – Ведь те люди немногим отличались от современных. Разве что ходили в других одеждах и не было самолётов, машин, но чувствовали и страдали так же. И хоронили так же: тело умершего заворачивали в белое полотно и усаживали в могилу лицом к Иерусалиму. Жившие несколько веков назад знали Закон Бога на земле, но, подобно людям сегодняшнего дня, не знали соотношения Провидения и волевого усилия человека. Никто этого не знает".
Тайло смотрела на вскрытый квадрат запечатанной дёрном земли, на завёрнутое в белый холст тело отца, и смерть показалась не страшной. Ведь Хизгил ушёл к своим родным. "Меня положишь рядом", – попросила мама. С какой-то странной блуждающей полуулыбкой возвращалась она с кладбища, наверное, воспоминания оказались сильнее смерти. Вспоминала и Тайло: она сидит у отца на плечах и с гордостью оглядывает попавшихся навстречу детей. Торжество перемежается чувством неловкости, оттого что дети смотрят на неё с завистью. Папа, в отличие от других еврейских мужчин, перенявших от мусульман деспотизм в отношении к женщинам, никогда не бил ни её, ни маму. И работу он делал всякую, не считал для себя позором домашние дела. Даже воду носил у всех на виду, когда испортилась ближняя водокачка. А ведь в наших краях это стыдно для мужчины. Случись старику доживать одному в доме, так он ходит за водой ночью, чтобы никто не видел.
После смерти отца мама стала заговариваться, события шестидесятилетней давности помнила лучше вчерашнего дня. А то вдруг засмеялась.
– Ты что? – спросила Тайло.
– Я от радости. Хизгил подарил мне шёлковый платок – белый с желтыми розами, тот, что в сундуке лежит. Я положила платок ему под голову, с собой унёс.
Или начинала плакать: вспоминала, как танцевал Хизгил – словно птица, по кругу летел. Глядя на очарованных вокруг девушек и молодых женщин, она замирала от страха потерять его. Однажды мама проснулась и долго лежала с открытыми глазами. Такого с ней никогда не случалось, обычно спешила встать и приняться за работу по дому.
– Ты плохо себя чувствуешь?
– Хорошо. Мне хорошо. Отец приходил ночью и лёг рядом. Прощения просил. Простила, конечно. Я же знала, что мы вместе будем.
Через два дня мама умерла. Похоронили её рядом с отцом. Согласно преданию, душа человека пребывает в доме, откуда ушла, в течение года, и год должна гореть в доме лампа. Тайло зажгла одну на двоих: маме и отцу, и памятник заказала – один на двоих. Мама говорила, что на небесном суде дозволяется присутствовать предкам и ближайшим родственникам, которые уже в раю. Где же ещё быть маминым родителям, которых убили во время погрома? Они попросят за маму, найдут оправдание её грехам. Только не было грехов у Ноами, не в чем оправдывать сироту, прощающую грехи ближнему. Рай мама представляла на самом высшем небе; там стоит трон Творца миров, перед ним ангелы, херувимы, праведные и благочестивые люди. Все наслаждаются созерцанием божественной мудрости, где, наконец, люди постигают причины и следствия всего происходящего в мире. "То есть, – усмехнулась про себя Тайло, ─ рай может считаться местом блаженства из-за растущего там древа познания".
"К смерти нужно относиться философски", – говорил Ной. Только как справиться с болью, недоумением – был человек от начала дней твоих, и нет его. Трудно с этим смириться, но так устроена жизнь. Мы приходим в этот мир работать, и всё, что можем, – делаем. "А что я могу? – спрашивала себя Тайло. – Стараюсь развить в детях любознательность, чтобы нашли своё призвание, выбрали свою жизнь. В каждом ищу страсть к книгам, которая была у Гочи. Люди перестают мыслить, когда перестают читать, – говорю я ученикам и повторяю древнюю мудрость: "Лучше заимствовать у мудреца ум, чем у богатого кошелёк". Только не по силам детям преодолеть влияние семьи, окружающих. Вот и Рути с завистью смотрит на увешанных золотыми цепями и браслетами мам своих подружек. Злится, когда говорю ей, что человека больше радует любимое дело, чем вещи. Если каждый найдёт своё призвание, не будет зависти. Могу ли я завидовать, например, чемпиону по метанию копья, если у меня нет желания заниматься спортом".
Рути училась в девятом классе, когда минуло несколько лет с начала перестройки. Если раньше подростки думали – их будущее зависит от старания хорошо учиться, чтобы поступить в институт, то теперь стало ясно: не школа, а бизнес поднимет их на волну удачи. Были открыты частные магазины, мастерские по пошиву обуви. Приватизировали консервный завод, и многие рабочие оказались на улице. Колхозные поля, виноградники перешли в частные владения бывших партийных руководителей. С ними теперь не просто здороваются – низко кланяются, они стали на положении баев, которые нанимают батраков. Все спешат открыть своё частное дело и утвердиться в нем, кто не успел – остался ни с чем. В округе один за другим строятся роскошные дома – дворцы баев, которым те, кто не сумел сориентироваться, чешут пятки.
Опустели старшие классы – зачем сейчас аттестат зрелости, если своё частное дело, будь то выделка кожи или отара овец, принесёт больше дохода, чем образование. Никому не хотелось переходить в разряд бедняков. Даже в престижных вузах, поступить в которые недавно представлялось голубой мечтой, был недобор. Инстинкт самоутверждения удовлетворялся приобретением вещей. Всесильному слову "бизнес" учительница не могла противостоять разговорами о любви к знаниям, неуместными стали беседы и о чистоте нравов. Всё реже светились глаза учеников, когда речь заходила о необходимости поиска своей золотоносной жилы – своего призвания, творческого начала. Теперь золотоносная жила понималась буквально – бизнес.
Ощущение своей значимости сменилось у Тайло растерянностью, сознанием бесплодности усилий. Ни с какого боку не причастная к частному предпринимательству, она обнищала, зарплаты хватало теперь всего лишь на хлеб.
Приобщившаяся к чтению Рути потеряла к книгам интерес, целыми днями она лежала на диване, не зная, чем заняться. От сознания своей непричастности к сметливым, ухватистым ровесникам совсем сникла, стала апатичной, и если раньше мама представлялась всесильной, то сейчас она – немолодая, растерявшаяся – усугубляла чувство растерянности, беззащитности.
"Рути стыдится меня, – поняла Тайло, – я, наверное, её неправильно воспитывала. Раньше в ней, самой начитанной девочке в классе, проглядывал снобизм, сейчас – страх, беспомощность, не за что ей зацепиться в жизни. Ничего ей не дала музыкальная школа, куда я водила её со второго класса, и кружок рисования не привил интереса к живописи. Окажись она талантливой в искусстве, всё сложилось бы иначе. Сейчас же не видит своего будущего. Нет у неё никаких определённых желаний, интереса к чему-либо. Даже у очень бедного человека, если есть цель – есть силы жить. Это я во всём виновата, вырастила девочку слабой, несамостоятельной, не разглядела её способностей. Ведь мы начинаемся в этом мире не с чистого листа, а с некой врождённой данности, предрасположенности к тем или иным занятиям. В процессе учения вспоминаем себя, а если нет чувства причастности к тому или иному предмету, информация не воспринимается нами, сколько бы мы ни старались запомнить".
Желание оправдать дочку воскресили давно забытые чувства – ведь и она когда-то стыдилась своей старой, плохо одетой мамы. На родительское собрание в школу напоминала ей надеть специально купленное для этого платье. Теперь-то знала, ─ ей всегда нужна была только её мама, довольствующаяся тем, что у нее было.
Нереализованное честолюбие Рути обратилось в депрессию. Утром соберётся в школу, оденется, причешется, а у самых дверей остановится и вернётся назад. Ложится на диван и отворачивается к стенке. Тайло пытается разговаривать с дочкой, чем-нибудь её заинтересовать, но та молчит или отвечает одним словом: "нет". Ничего не хочет, ничего ей не интересно. Молчит и на просьбу съесть что-нибудь. Тайло теряется, не знает, что делать. Последние сутки Рути ничего не ела. Настаивать страшно, как бы дочка в знак протеста что-нибудь не сделала с собой. Её подавленное, угнетённое состояние часто сменяется раздражением. "Пусть лучше кричит на меня, чем, безучастная ко всему, лежит на диване. Ведь это я во всём виновата, – корит себя Тайло, – боялась обидеть, не научила работать, не воспитала воли, что и привело к душевной лени. Я своей чрезмерной любовью и заботой обесточила её, и если сейчас она не соберётся, не сделает усилия, депрессия станет наркотиком, в котором можно забыться".
– Ну что ты всё лежишь, – мягко, боясь взрыва раздражения, говорит Тайло.
– А что я, по-твоему, должна делать?
– Сходила бы куда-нибудь.
– Куда, например?
– Сегодня у внука Софико день рождения, она звала тебя.
– И в чём я должна идти? В старой юбке?
– Может быть, нам продать дом? – советуется Тайло с дочкой. – Сам по себе он ничего не стоит, но этот район теперь в цене, вокруг строят новые большие дома, старых почти не осталось.
– Продавай, – отозвалась Рути, – мне всё равно.
– Купим подальше. Зато у нас останутся деньги с доплаты, их на всё хватит.
Тайло понимала, деньги эти быстро кончатся, да и не хотелось уходить с обжитого места, где всё напоминало маму. Но был ещё страх перед соседкой Зульфой, как бы та не рассказала Рути, что она не родная – приёмная дочка, то есть у неё не мать, а мачеха. Когда-то детьми они с Зульфой подолгу играли в мяч, потом Тайло надоело это занятие; однообразное кидание мячика на кривой улочке с плетёными заборами и собаками, лениво помахивающими хвостами, вызывало нестерпимую скуку. Тогдашняя детская скука была неосознанным страхом перед пустотой, она-то и оказалась границей, натолкнувшись на которую, Тайло затосковала по интересной, необычной жизни. Зульфа тогда обиделась и назвала её хитрой. В шестнадцать лет Зульфа вышла замуж, родила сына. Казалось, всё у соседки хорошо, но с перестройкой муж потерял работу, и она стала ссориться с ним; кричала на всю улицу, называла дармоедом, ослиным хвостом. И он не оставался в долгу: "Я ли не кормил тебя, холера, все эти годы, я ли не одевал тебя, такую чуму! А теперь ты открываешь на меня свой поганый рот, потому что у меня нет денег. Ах ты, конская зараза!" Вскоре крики прекратились. Муж Зульфы уехал в Россию на заработки и нашёл себе там новую жену. Соседка позеленела от злости, все вокруг оказались виноватыми в её беде.
Однажды, когда Тайло не было дома, она спросила Рути, глядя на портрет Ноя над её кроватью:
– А это кто такой?
– Мой папа.
– Папа? – усмехнулась Зульфа, блеснув золотым зубом.
– Да. Он погиб в автомобильной катастрофе.
─ И кто же тебе такое сказал?
─ Мама.
– Ну, и видела ты своего папу?
– Нет. То есть я его не помню, совсем маленькой была.
В тот же вечер Рути спросила Тайло:
– Кто был мой папа?
Та растерялась, девочка никогда не спрашивала об отце.
– Я тебе говорила, он был психологом…
– Приходила Зульфа. Она не верит, что он мой папа, – указала дочка на портрет Ноя. – Я его ни разу не видела.
– Ты была маленькой тогда…
– Я уже это слышала, – перебила Рути, – ты говорила, он погиб в катастрофе, но хоть какая-то родня должна же остаться. Ты мне всё врёшь! Почему у меня твоя фамилия? Почему мы одни? Где вы жили тогда?
– Жили в Москве… ─ и Тайло стала вспоминать свою первую встречу с Ноем, стала вслух мечтать, как удивительно могли бы сложиться их отношения.
– Ты мне сказку рассказываешь, – вздохнула Рути.
– Почему сказку?
– Потому что ничего такого не было. Ты всё придумала, так не бывает. Вот и бабушка рассказывала мне сказки о любви, которая сильнее горного водопада. Я думала, и у меня будет такая же, ждала. А что теперь? Ты твердила, что у тебя есть подруга в Москве, художница. Я смогу остановиться у неё, когда поеду поступать в университет. А я не хочу в университет, не хочу такой жизни, как у тебя! Я хочу быть красивой и чтобы меня любили. И чтобы у меня всё было. Ты видишь людей не такими, какие они на самом деле.
– А какие они на самом деле?
– Где твои ученики, перед которыми ты распиналась о всяких разных возможностях человека? Они делают деньги! А родня отца, где она? Или не хотят знаться с тобой? Жена твоего родного брата говорит, что ты сумасшедшая, сбиваешь с толку её детей. Зачем им учиться и жить потом, как ты, на зарплату?
Тайло продала дом и купила другой – подальше от центра города. На деньги, что получила в доплату, надеялась поддержать дочку в течение двух-трех лет, пока та не определится. Через месяц деньги обесценились.
"Нелепая у меня мамаша, – думала Рути, – оправдывается тем, что живём на природе – рядом поля, виноградники. Сдалась мне эта природа. Ничего моя мать не может, ей все говорят: спустись на землю, иди торговать! Не может, видите ли. Все могут, а она не может. Придуряется. А мне без разницы, я не хочу с ней жить. Всё врёт, и про отца моего наврала. Жалкая, некрасивая, чинит старые штаны – одну заплатку кладёт на другую. Надеется на какие-то чудеса, перемены. Строит воздушные замки. Ладно, пусть. Это её дело. А я не хочу жить придуманной ею жизнью. Сейчас придёт с работы, принесёт чего-нибудь вкусное, сто граммов колбаски, которую я обожаю. Сама не ест. Очень она меня раздражает своей любовью. Всё пытается рассказать о каких-то учёных, книгах, а мне неинтересно. Надоела она мне со своим сюсюканьем: птенчик ты мой, пусенька– карапусенька. Никак не расстанется со словами, которые нормальные матери забыли давно. Цепляется: съешь блинчик, съешь творожок, не уходи из дому с пустым животом. Я, может, и съела бы, только уж очень она пристаёт. Последнее время молчит, приготовит завтрак и молчит. Так только бросит, как бы между прочим: если хочешь, поешь. Притворяется, будто ей всё равно.
Почему мама родила меня, когда ей было почти сорок лет? В сорок лет уже внуков нянчат. Говорит, поздно вышла замуж, потом забыла и сказала, что студенческая фотография папы, которая висит на стенке, сделана перед их свадьбой. Врёт всё! И в гости к нам никто не ходит. Скучно у нас в доме, пусто".
Всё у Тайло сошлось один к одному: апатия дочки, отсутствие денег, недовольство родителей в школе – не тому учит их детей. Даже коллеги обвиняли в том, что воспитывает в учениках манию величия – излишний интерес к своему "я". Люди поверили в нечаянную удачу бизнеса, а не в разум, образование. За последние несколько лет незадачливая учительница ссутулилась, постарела. То был тупик, когда не знаешь что делать, куда и к кому обратиться за помощью. Самое ужасное, что всё зло этого мира дочка сконцентрировала на той, которая дала ей жизнь, но не научила жить. Рути кричит на растерявшуюся мать, обвиняет её в своих неудачах. Для девочки это своеобразная психическая разрядка, а для Тайло – конец маршрута.
Мысленно абстрагируясь от всего и всех, учительница предпенсионного возраста представляла себе некое место на земле, где освобождают от нестерпимой боли души – отрубают голову тому, у кого нет больше сил жить. К тому пню, на который неудачники кладут голову в ожидании мгновенной смерти, стоит опоясывающая земной шар безмолвная очередь. Нет головы – нет мыслей, чувств. "Я устала, – обращалась не умеющая отгородиться от бед женщина к некоему Свидетелю всего, что случилось с ней. – Сколько может вытерпеть человек?"
Вспоминалась уборщица в аспирантском общежитии – тихая, с доброй улыбкой женщина, муж которой спал с её младшей сестрой; ту она, после смерти родителей вырастила с трёхлетнего возраста. И все жили в одной маленькой квартире. Муж, сестра, взрослый сын, как только не издевались над ней, а она терпела и делала по дому самую тяжелую работу. Некуда было уйти, да и не могла расстаться с сыном, очень она его любила, всё угодить старалась. Вскоре та уборщица умерла, и все, живущие в общежитии, почувствовали себя виноватыми – оказались перед бедой, в которую не вмешались. А ведь, наверное, могли помочь несчастной женщине. Или не могли? В подобной ситуации мы сами принимаем решение. Растерянная улыбка той женщины в последнее время часто видится Тайло как свидетельство безнадёжности, тупика.
От желания уйти из жизни и ничего не чувствовать – соблазна небытия – удерживал страх за дочку. Изо всех сил старалась угодить ей. Готовила её любимые блинчики, силилась вспомнить что-нибудь смешное, чтобы увидеть хотя бы подобие улыбки на лице своей девочки. Всё реже Рути говорила спокойно, чаще, кричала, раздражённая беспомощностью матери, её готовностью согласиться на всё. Если же Тайло пыталась возражать, настаивать на своём, озлоблялась и заходилась в крике до истерики, которая сменялась апатией. А когда перед экзаменами на аттестат зрелости бросила школу, у Тайло пропала последняя надежда на то, что всё образуется. Глохла душа, не было сил преодолеть отчаянье. Знание психологии, а именно того, что защита против зла – в крайнем индивидуализме, то есть необходимости в тяжёлой ситуации переориентироваться с внешнего мира на внутренний, не помогало. Ведь дочка стала содержанием, смыслом её жизни. Страх за неё, подавленность стали привычными. Вечером ложилась и утром вставала с чувством непреодолимой усталости, а раньше – с ожиданием нечаянной радости, желанием работать.
Хотелось спрятаться в детство, в сказки, которые мама рассказывала и Рути. Сказки о совершающих разные подвиги лихих джигитах. Ради девушек, прекрасных как луна, они преодолевали все испытания. Любовь, верность представлялись таинством. Мама перед повествованием о долгожданной встрече разлучённых влюблённых вздыхала, делала паузу. Так же, слушая бабушку, переводила дыхание Рути, ей, как и Тайло в детстве, всё казалось правдой. Мудрый Мордехай – гроза беков – восстанавливает справедливость, праведен всемогущий царь, и Бог каждому воздаёт за доброту его. Главное – верить и искать свою дорогу. Человек в поисках счастья идёт туда, откуда восходит солнце. Мама говорила красиво, образно: худой как щепка, бледный как старая зола. Или: увидели они друг друга, и любовь вошла в их сердца… У человека два глаза, но нужно ещё два, чтобы наглядеться на такую красоту. Долог был путь богатыря к своей невесте: "Шли дни за днями, недели за неделями, много воды утекло в соседней реке…". Сказки оказались всего лишь сказками, а на самом деле не было ни спасающей любви, ни веры в счастье, ни нищего праведника, нашедшего клад. В жизни случилось наоборот – всё потеряно, не на что и не на кого надеяться.
Тайло просила Бога хоть какого-нибудь дополнительного к зарплате заработка. Не ради себя, ради дочки. Порадовать бы её обновкой, главное – лучше кормить, а то у потерявшей ко всему интерес Рути началась анемия – бледнела, худела и всё реже вставала с постели. "Ладно, я банкрот, – думала забывшая в отчаянье все педагогические навыки учительница, – но дочку нужно вытащить. Я дала ей жизнь…, но ведь я это сделала ради себя. Очень хотелось заботиться о маленьком, любить. Запас любви, которого хватило бы на десятерых детей, я выплеснула на неё. Кто такое может выдержать. Нашёлся бы сейчас хоть один человек, заинтересованный в ней, не родственник – посторонний, не так страстно, как я, привязанный к девочке. Софико не сумеет помочь. Вот и опять встала предо мной Фатима, может быть, биологическая мать передаст Рути энергию жизни. Иначе она погибнет.
Где же начинать поиски Фатимы, как не с её родного селения Ахты. Самой её там наверняка нет, зато родители вряд ли оставили свой дом".
И была та дорога, как во сне. Тайло шла, ехала в автобусе, снова шла, потом опять ехала в автобусе, а всё казалось, стоит на месте. Не могла она своими руками отдать дочку. При виде строений на пригорке совсем обессилела. Где-то в подсознании мелькнула надежда – не найдёт она Фатимы, и девочка останется с ней. То ли надежда, то ли отчаянье – сама ведь не могла справиться с угасающей Рути. "А может, всё ещё образуется, у дочки переходный возраст. И мне обещали в младших классах дополнительные уроки, копеечный заработок, но всё-таки деньги".
С утра ясное небо заволокло тучами, ветер погнал сухие стебли, они застревают у камней, словно пытаются зацепиться за место, на котором росли. "Вернусь домой, – решила Тайло. – Это же безумие. Не могу я потерять Рути. Нужно переждать это время, потом станет легче, но ведь уже долго тянется депрессия девочки и никаких признаков выздоровления. Сейчас лежит, не зажигая света. Трудно нам с ней прижиться в чужом доме, ни к чему руки не лежат. Там, на прежнем месте, каждая грядка в огороде, каждый куст выхожены мамиными руками. Сколько раз мама вместе с Рути обмазывала белой глиной стены нашего дома. Сломали дом, сейчас на том месте куча мусора. Какая безумная затея – искать Фатиму. А если вернусь, увижу на постели отвернувшуюся к стенке Рути. Уже два года лежит, будет лежать так и завтра, и послезавтра. Раньше хоть кричала на меня, обвиняла во всех своих бедах, сейчас молчит, и это еще страшней".
Войдя в село, Тайло остановила бегущую под усиливающимся дождём женщину, спросила, где живут родители Фатимы. "У нас тут три Фатимы", ─ услышала она в ответ. "Я ищу ту, которая училась в Москве, фамилию её забыла". – "Так родителей той давно нет, померли, – приостановилась женщина, вглядываясь в незнакомку, – а дом их вон тот, с краю. Фатима как раз там и живёт". Деревянными негнущимися ногами Тайло подошла к указанному ветхому строению, вошла во двор. Весь мир сузился до расстояния дорожки от калитки к двери, за которой…, но, может быть, там никого нет, уехала Фатима и неизвестно где её искать. Всего лишь несколько шагов, но как одолеть их, если в ногах неподъёмная тяжесть. Теперь постучать. Казалось, прошла вечность до того, как послышались шаги и дверь открылась… На пороге стояла хмурая, начинающая седеть женщина. Ни за что не узнать бы в ней прежней миловидной девочки. А сережки – те же, что получила в подарок за ребёночка девятнадцать лет назад – с рубиновыми камушками и золотыми подвесками.
– Вам кого? – В голосе недоумение, досада. Хозяйка не признала в немолодой измученной гостье "москвичку", которую называла "госпожой".
– Я к вам… – замешкалась та, не в силах отвести взгляда от дрожащей золотой подвески. Фатима уже не та, к которой она обращалась на "ты". – Вы…, мы…, я…, вы меня не помните? Вы приезжали ко мне в Москву…
– Вы?! Это вы?! …Моя девочка?! Где она? – побелела Фатима, – с ней что-нибудь случилось?! Почему вы молчите?
– Она здесь. Недалеко.
– Где здесь? Почему здесь?
– Это я…, я её тогда взяла у вас. Очень хотелось ребёнка, ну, а родить без мужа в наших краях невозможно. Сами знаете. Вот и усыновила, то есть удочерила Рути.
– Значит, я могу увидеть свою маленькую?!
– Можете, только она уже не маленькая.
– Да, да, конечно, не маленькая...
Фатима, наконец, отступила, давая возможность Тайло пройти в дом.
– Но почему…, почему вы пришли ко мне? Вы делитесь со мной моим… вашим ребёнком?
– Да, мне одной не справиться. Раньше всё было хорошо, а сейчас...
– Что сейчас?! – вскричала Фатима. – Что-нибудь случилось?!
– Сейчас всё пошло вкривь и вкось. Мужа у меня нет…
– И у меня нет, – эхом отозвалась хозяйка.
– Вы так и не вышли замуж?
– Нет. Живу одна. Одна в старом доме своих родителей, переехала сюда из Нальчика, когда началась перестройка. Винный завод, где работала технологом семнадцать лет, приватизировали. Я, как и многие, осталась на улице. А вы? Вы же жили в Москве.
– Жила. Теперь в Дербенте.
– Расскажите про мою девочку, про Рути. Красивое вы ей имя выбрали. Ей ведь уже шестнадцать лет, нет, девятнадцать. Что она делает?
– В том-то и беда, что ничего не делает. Бросила школу. Целыми днями лежит, говорит – голова кружится, ноги не держат. То впадает в депрессию, то становится агрессивной. Ничего не хочет, ничего ей не интересно: бессилие, апатия. Раньше такого не было. Может быть, это генетика. Я тоже теряю силы, и если со мной что случится, вы ведь не оставите Рути. Я работаю в школе, но что значит сейчас зарплата учителя.
– Я помогу! Конечно! Моя девочка! Если бы вы только знали, всё это время я мечтала хоть взглянуть на неё, только взглянуть.
– Сейчас вы можете это сделать, но не говорите сразу, что вы её мать. Потом, постепенно, а то, боюсь, кончится нервным срывом. Вы придёте без меня, без меня вам будет легче.
Тайло вернулась в свой дом спустя час, как туда вошла Фатима. Гостьи уже не было.
– Приходила какая-то невзрачная тётка, – рассказывала Рути, – у неё дрожали руки, почему-то через несколько минут убежала. Выскочила как ошпаренная.
Помолчав, добавила:
– Знаешь, она мне почему-то показалась знакомой.
Тайло хотелось сказать: "Ты бы внимательней посмотрела на себя в зеркало", – но промолчала. Вслух же произнесла:
– Может быть, переселение душ, ты встретила ту, которую знала в предыдущем воплощении.
Вопрос переселения душ – единственное, что занимало Рути последнее время. Иногда она начинала утверждать совсем уж непостижимые вещи, вроде того, что в прошлой жизни она была пиратом и полюбила красивую знатную девушку. Девушка вышла замуж за другого, а пирату только и оставалось скитаться по морям, вглядываясь в пустой горизонт. Теперь же, считала Рути, душа того горемыки переселилась в неё.
Фатима прислала по почте деньги, сама же не появлялась. Наверное, у неё не было сил вот так сразу справиться с ситуацией. Тайло же продолжала перебирать прошлое – где, в какой момент она неправильно повела себя с дочкой? А может, и нет её вины, всё дело в предрасположенности к нервным срывам, то есть в генетике. Как бы то ни было, положение представлялось безвыходным и не покидало сознание своего бессилия. Тайло сникла, как-то уж очень быстро состарилась. Её, как и Рути, стал раздражать яркий свет, и тоже не хотелось есть. Исчезла надежда пересилить беду. Ощущение пустоты, бестелесности парализовало желания, наступило что-то вроде атрофии чувств. "То ли я есть, то ли нет меня. Кто я? Щепка, которая не может противиться течению реки. Ничего я не могу изменить. Не защищает от жизни и когда-то вдохновлявшее учение Пифагора о том, что число – ключ к познанию мира. Не становится легче от мыслей о возможности постичь разные комбинации чисел, из которых состоит небо, звёзды, ум и душа человека. Когда падает звезда, я не думаю о космосе, а загадываю желание. Оно у меня всегда одно – чтобы дочка была счастлива".
В очередной раз, когда Рути кричала:
– Ты мне всё врёшь!
Тайло, словно отстранившись от всего происходящего, спокойно произнесла:
– Верно, вру. Портрет, что висит над твоей кроватью, не твоего отца. Это мой научный руководитель. Удивительный был человек, щедрый – со всеми делился своей энергией, талантом.
– А…, а кто же мой отец?
– Не знаю. Потому что не я тебя родила.
– Опять ты мне врёшь! – выкрикнула Рути, готовая чуть ли растерзать мать за очередное враньё.
– Та женщина, которая приходила на днях и показалась тебе знакомой, она твоя мать. В следующий раз встанешь с ней рядом перед зеркалом и всё увидишь.
Ошеломлённая Рути молчала, она поняла – это правда.
Теперь Тайло только и оставалось, что восстановить события прошлых лет. По мере того, как она рассказывала, Рути оживала – во взгляде появился интерес.
– Получается, меня могло не быть?
– Получается, так.
Отрешившись от последнего, что у неё было в жизни, – дочки, Тайло совсем сникла. Рути, наоборот, будто отряхнулась от своей депрессии. Мать представилась ей теперь не погубительницей и причиной всех бед, а спасительницей. У Тайло болело сердце – то ли невроз, то ли предынфарктное состояние. Прошлое казалось миражем. Выплывал из небытия Гочи, при виде которого она когда-то переселялась в рай, из-за него отказалась от предложенного свахой жениха. "А ведь всё могло сложиться иначе. Мне было тогда шестнадцать лет, вот и Фатима родила Рути в шестнадцать лет".
Несколько раз в день Рути присаживалась к обессилевшей матери на постель, чтобы смазать ей горло керосином. "Ты не бойся, – говорила она, – это помогает от всех болезней. Керосин – органическое соединение, не химия, а нефть – продукт перегноя под водой. Мы тоже вышли из воды". Тайло не противилась, не спрашивала, почему именно из воды, и какое отношение керосин имеет к боли в сердце. Участие дочки лечило лучше любого лекарства.
─ Знаешь, а ты и вправду спасла меня и тогда, и сейчас, – проделав очередную керосиновую процедуру, заговорила Рути. – Мне приснился сон, то даже был не сон, я просто лежала ночью с закрытыми глазами. Слышу лёгкие шаги, ко мне подходит женщина вся в белом, смотрит ласково, нагибается надо мной... Я подумала – это ты, но вдруг услышала твой стон. Белая женщина встрепенулась и растаяла. Это смерть за мной приходила, а ты вспугнула её.
Теперь у Рути две мамы, недавно она ездила к Фатиме, целую неделю провела у неё. Вернулась задумчивая, растерянная. "Знаешь, – сказала она Тайло, – там, в Ахты, я узнала свой дом. В первый раз оказалась в своём доме, будто всегда жила в нем". Дочка всё чаще уезжала в село, в старом доме Фатимы она нашла давно пылившиеся на полках ступки, пестики, мешочки с сухими травами. Самостоятельно разбираясь, что к чему, девочка день за днём сидела над оставленным наследством своей биологической бабушки. Рути ожила, теперь она знала, чем заняться. Так же, как и бабушка, которую она ни разу не видела, станет лечить травами.
"Ну вот, всё и определилось, – думала Тайло. – Не надо навязывать детям свои представления о жизни, они сами выберут, было бы из чего выбирать. А ведь я видела свою девочку не иначе, как учёным, невольно внушала ей устремления Ноя. Строила воздушный замок не только для себя, но и для Рути. Теперь хочу одного – пусть будет здорова и счастлива". Вот только вернуть бы дочку в школу; получила бы аттестат, а там сама решит, что ей делать". "Твоя мать из села приехала в город учиться, а ты неужели неучем останешься?" – говорила ей Тайло. И дочка послушалась. Сейчас она относилась к ней – своей "первой маме", как стала называть её, с нежностью. Как-то прижалась и говорит: "Ты такая добрая". Встрепенулась отчаявшаяся душа, воскресла надежда: "Всё будет хорошо, найдёт моя девочка свою дорогу; у неё, подобно Фатиме, практический склад ума, ей нужно конкретное дело. Одинаково направленная жизненная сила сближает их; значит, всё-таки существует некий наследственный склад ума".
В поисках книг о лечении травами Рути теперь ездит в городскую библиотеку. Познакомилась с людьми, которые знают, какие и когда собирать травы. Деловая, она стала главной в доме, а "первая мама" – на положении бабушки, которая готовит, убирает и угождает ближнему своему. "Вот так и доживу свой век, – думала Тайло. – А если бы всё сначала? Если бы жизнь только начиналась? Наверное, было бы то же самое. Не мы выбираем свою судьбу, судьба выбирает нас. В человеке проявляется то, что в нём заложено. Даже сейчас не могу отказаться от прошлого, от своей детской мечты вычислить формулу справедливости. То ведь, в сущности, стремление понять смысл человеческих усилий, мольба к Всевышнему. Если бы всё заново, ни за что не отказалась бы и от встречи с Ноем. В чувстве чести, силе ума и характера он искал то, чем можно жить. Не раз говорил: "Смирение и примитив схожи, легче плыть по течению, чем бороться. Обратите внимание, выживают смиренные, они мимикрируют. Человек богоподобен в той мере, в какой наделён разумом и волей". Для Ноя главным было то, что мы сами из себя делаем. Однажды обмолвился: "Не получилось у меня семейной жизни, хотя и очень нуждаюсь в ней". Жанну – жену ему трудно было любить. Вулканическая энергия Ноя затухала в её присутствии. Не имея собственного мнения, Жанна повторяла слова, которые она от кого-то слышала, и при этом упрямо настаивала на своей правоте. Не унаследуй Ной от своих местечковых родителей сознание необходимости везти свой воз до конца, ушёл бы от неё".
Школа, где Тайло училась, а потом проработала больше двадцати лет, совсем захирела; образование, в отличие от бизнеса, не давало шансов разбогатеть. Отдушиной оказалась открывшаяся в Дербенте еврейская школа. Классов там было мало, мало и уроков математики, денег платили соответственно. Однако лекции приехавших из Иерусалима хахамим с лихвой компенсировали маленькую зарплату, потому как проясняли смысл диалога, который незамужняя учительница вела со своей судьбой. Немолодая женщина узнала себя в рассказе о юном ешиботнике, что бежал за бричкой посетившего ешиву знаменитого рабби. Рабби обещал отдать в жёны свою красавицу-дочь любому из учеников, кто ответит на заданный им вопрос. Таковых в ешиве не нашлось. "Мне не нужно никакой награды, только скажи ответ!", – кричал мальчик вслед уезжающему мудрецу. "Ты-то и будешь моим зятем!" – воскликнул ребе. Вот и жизнь Ноя определялась желанием знать. Для него идея Бога предполагала совершенство мира, развитие творческих сил человека. А для горских евреев, не забывших традиции тысячелетий, Бог – не только идея, но и живая жизнь. Память традиций, хоть и сохранилась в основном на бытовом уровне, но она сплачивает народ, поддерживает уверенность в своем отличии от иноверцев. Мы делаем то, что делали наши предки: в Пурим едим сладкие пирожки, к Песаху чистим дом и покупаем новую одежду. В эту праздничную неделю даже коммунисты не ели квасного. Сохранилась заповедь помогать бедному. Сироту община берёт на своё содержание. У нас не было нищенства и не было аристократов и плебеев. Были те, которые хотели знать, и были невежды. Старики, хоть и не умеют читать написанную на иврите Тору, продолжают ходить в синагогу. Теперь и молодые заглядывают, последнее поколенье подхватило потухающий огонёк – в домах появились переведённая с иврита Тора, сидур.
Подтверждение предания о происхождении горских евреев от десяти колен Израилевых Тайло нашла во Второй Книге Царей Св. Писания: "И пошёл царь Ассирийский на всю землю, и приступил к Самарии, и держал её в осаде три года. В девятый год Осии взял царь Ассирийский Самарию и переселил израильтян в Ассирию, и поселил их в Халахе и в Хаворе, при реке Гозан и в городах Мидийских". Города Мидийские – это северный Иран, откуда евреи прибыли на Кавказ. Чего только не пришлось пережить, однако не смешались с окружающими народами, сохранили принципы чести, верность слову, сохранили Закон – источник стойкости, духовной силы. Из переизданных дореволюционных книг восстановилась и не столь давняя история, стала понятной и всегдашняя обособленность горских евреев. То ли убеждённость в своём особом призвании определила отличие от остальных народов, то ли это отличие явилось результатом отношения к чужим. Как бы то ни было, евреи оказались виноватыми и перед мусульманами, и перед христианами; их грабили, убивали, обвиняли в преступлениях. Само слово "джугут" – еврей – считалось бранным. А после присоединения Кавказа к России появились ещё и кровавые наветы. Мусульмане утверждали: еврейские дети рождаются слепыми, и чтобы они прозрели, им мажут глаза кровью иноверцев. В Пурим, когда молодёжь скачет на лошадях в поле – радуются, что Амана повесили, христиане говорят: евреи гонят Христа, а мусульмане твердят своё: евреи гонят Магомета. Бывали редкие случаи побратимства, но это не меняло общего положения. Антисемитизм, грабёж не остались в прошлом, и сейчас, во время перестройки, налоговая инспекция, состоящая из мусульман, душит именно еврейский бизнес.
Выжили в течение веков, не замёрзли в землянках, не умерли с голоду, преодолели погромы, презрение, победили страх и сохранили своего Бога. Если в некоторых насильно обращенных в мусульманство селениях осталась всего лишь память о еврейском происхождении, то у нас вера выстраивает жизнь. Сейчас, когда призрачная мечта о своей Родине стала реальностью, евреи оставляют Дербент. Решившимся продать нажитое годами хозяйство, дом, завидуют: ведь у нас всегда считалось самым большим счастьем жить и умереть на своей земле. Когда в Дагестане уходил в лучший мир очень хороший или богатый еврей, ему в могилу под голову клали мешочек с землёй Израиля. Не зря же наши предки из поколения в поколение жили с молитвой: "Сегодня здесь, на следующий год – в Иерусалиме".
Мысли об Израиле не оставляли Тайло. Может быть, то было инстинктивным стремлением вернуться туда, откуда пришло знание Бога – Единого начала мира. Не хотелось думать, что Он, сотворив этот мир, устранился, ведь к Нему обращаются все, кому больно, невыносимо жить. "Он, незримый, присутствовал в мамином уповании и страхе, Его – Всемогущего я пыталась постигнуть путём нахождения формулы справедливости, Ему кричу о спасении дочки. Каждое поколение вносит свою долю в познание промысла Небес – древо жизни и древо познания едины".
"В Дербенте мне больше делать нечего. Если останусь, один день станет похожим на другой. Рути определилась, сейчас я для неё не авторитет, и забота моя ей теперь ни к чему. Она не хочет ехать со мной, но потом, может быть, решит, что в Израиле ей лучше. Во всяком случае, у неё будет выбор. Предоставить выбор – бóльшее участие, чем готовить её любимые блинчики с творогом и смотреть, чем бы ещё угодить… Хорошо, что мы уехали из нашего дома, земля там сейчас дорогая, за неё и убить могут, а на новое наше место никто не позарится. Правда, теперь Рути дольше добираться до центра города, зато безопасней".
Спустя несколько лет с начала перестройки, то есть с окончания советской власти, наступил беспредел – людей убивают из-за конкуренции, за деньги, за квартиры в обжитых районах города. Могут убить на улице, а могут и в своём же доме. Дагестанцы, оказавшись после революции в социализме, миновав стадию капитализма, вернулись к дикости исходного состояния. С одной стороны – бандиты, с другой – фанатики: те, которые, съездив в Саудовскую Аравию, спешат возродить здесь законы шариата. Одни при встрече с бывшей учительницей своих детей, не скрывая раздражения, спрашивают: "Ты ещё здесь? Когда уедешь в свой Израиль?" Другие, наоборот, радуются за неё – может сбежать из этого ада. Уезжали горские и осевшие здесь ашкеназские евреи. Последних было немного, в основном из тех, чьи прадеды служили на Кавказе в царской армии, и специалисты, присланные сюда на работу. Лезгины заговорили, что и они когда-то были иудеями, но документов не сохранилось. А лакцы вспомнили, что вышли из Египта вместе с евреями, с ними же ушли из разрушенного Иерусалима.
"Устроюсь на новом месте, и Рути приедет, – мечтала Тайло. – Сейчас мы перестаём понимать друг друга, одни и те же слова толкуем по-разному. Может быть, там, где наши истоки, где в настоящем времени заключено и прошлое, и будущее, я найду то, чем жива душа человека".
Тайло объяснила Рути своё желание уехать в Израиль тем, что здесь, в Дербенте, она не чувствует присутствия Бога. Дочка промолчала, а Софико заплакала: сама она с семьёй собиралась в Америку. В еврейской школе, где Тайло работала последние несколько лет, поздравили со словами: "Все там будем". И ещё щемило сердце при встречах с учениками, которым она, так же, как её первый учитель, рассказывала о математических представлениях, относящихся к сфере идеального бытия. Всё, что знала, старалась вложить в детей. До сих пор помнит и различает их по особенностям восприятия материала, любознательности.
Сборы заняли всего-то несколько дней. Оставалось сходить на могилу Григория Николаевича и отнести его книги в школу, где он проработал сорок лет; на таможне их не пропустят, очень уж давние – антиквариат. Ещё попрощаться с родителями на старом еврейском кладбище. Потом в Москве оформить в израильском посольстве документы, и… И начнётся жизнь в другом измерении.
Рути с Фатимой и Софико смотрят на стоящую в окне поезда Тайло. Молчат. Молчаливое прощание последних секунд перед отходом поезда похоже на похороны. Никто не может знать, не навсегда ли прощаются. Поезд сейчас тронется, провожающие уйдут, и Тайло останется одна. Сколько раз она ездила этим поездом в Москву, самыми мучительными, полными сомнений и неизвестности оказались первое и последнее путешествие. Первый раз, когда ехала поступать в университет, на перроне оставалась испуганная мама, сейчас – растерянная Рути.
"В Москве меня встретит Марина. Двадцать лет не виделись, она писала, что любовь к Славику превратилась в нестерпимую ненависть. Сколько ей, бедной, пришлось вытерпеть – два родившихся один за другим мальчика умерли в пять и шесть лет от порока сердца. Славка её в упор не видел, спал со всеми, только не с ней. Чего только не делала, чтобы затащить его в постель, и всё для того, чтобы родить ещё одного сына – может, выживет. Мальчик родился, но до двенадцати лет был очень маленького роста. Марина думала – карлик, ходила с ним по врачам. В недавнем письме писала, что за последний год сыночек вдруг вытянулся и догнал своих сверстников, очень похож на Славку. Подруга в выстраданном сыне души не чает, учится он в художественном училище, и судя по фотографиям его работ – талантливый мальчик. Про дочку вспоминает редко, какой-то солдат, что служил в Москве, влюбился в неё и увёз к себе в Ставрополь. Живут они хорошо, трое детей, своё хозяйство, ни в чём не нуждаются. Вот уже пять лет, как Марина с сыном ушла от Славика. Когда началась перестройка, она получила большой заказ из Америки на оформление стадиона. Заработала много денег и купила квартиру в центре Москвы. Славка, оставшись один, тут же привел женщину и обзавёлся детьми. Новая жена бьёт его и выгоняет из дому. Он пожаловался Марине, и та вмиг навела порядок. Пришла и заявила той, что оказалась на её месте: "Будешь возникать, сука, выгоню! Квартира моя!"
Время в пути прошло в воспоминаниях своей и чужой жизни. Поезд подъезжал к Москве, и Тайло волновалась, как в первый раз, когда в семнадцать лет услышала по радио: "Подъезжаем к столице нашей родины – Москве". Сейчас обошлось без торжественного объявления. Тайло выходит на перрон такого знакомого и незнакомого города, оглядывается – никто к ней не спешит; "может быть, в пути поменяли номера вагонов – стали отсчитывать с хвоста состава". И уже рассеялась толпа прибывших и встречавших. На перроне осталась седая неухоженная женщина. Они медленно направились друг к другу, и когда оставалось всего лишь несколько разделявших их шагов, остановились. У Марины дрожали губы. Тайло увидела себя глазами подруги: и она состарилась, осела, располнела. Они обнялись и заплакали по своей молодости, надеждам.
Потом ехали в такси, касаясь плечами друг друга. Поднялись на лифте в новую квартиру Марины, из окна которой видна Москва-река. Сына не было дома, он уехал с приятелем в Новгородскую область в поисках старинных русских икон. Разделённые годами женщины погрузились в прошлое. Вспомнили Феликса. Уехав из общежития, Марина не теряла связи с некоторыми его бывшими обитателями. Они же и рассказали о судьбе Феликса или, как он себя называл, Фили.
– К пятидесяти годам твой бывший сосед за стенкой купил двухкомнатную квартиру и решил обзавестись семьёй. Нужна была молодая женщина, которая могла бы родить детей. И Филя расклеил объявления: "Сдаётся изолированная комната со всеми удобствами". Если звонил "болван", так он называл мужчин, отвечал, что комната уже сдана, а если слышал в трубке молодой женский голос, приглашал посмотреть. Остановился он на девятнадцатилетней лимитчице из деревни, штукатуром на стройке работала. Она вмиг забеременела и родила мальчика. Именно к моменту появления ребенка, Филя, не забыв привычки вольготной холостяцкой жизни, собрался провести свой отпуск в Крыму. Молодой жене это не понравилось, и пока он был на работе, она изрубила топориком купленную на её декретные деньги полированную мебель. А когда Филя стал на неё кричать, заперлась в ванной и вышла оттуда с остриженной головой. Волосы стригла ножницами под самый корень. Филя притих, понял – с ней шутки плохи. Потом родилась девочка. Молодая мать впадала то в депрессию, то в беспричинное веселье. Оказалась шизофреничкой. Долго лежала в больнице, а когда вернулась, привела в ту самую комнату, что сняла у Фили, напарника-штукатура из своей деревни. Твоему бывшему соседу удалось купить себе в том же кооперативном доме однокомнатную квартиру. Дети тут же перебрались к нему. А потом его убили в его же подъезде. Помнишь, он всё время изобретал всякие способы разбогатеть без большого труда? Вот и придумал одалживать деньги под проценты, и расписку брал. Кто-то из должников деньги не вернул, Феликс грозился обратиться в суд. Кончилось тем, что нашли его возле лифта с пробитой головой. Говорят, больше всех убивался на похоронах сын – плакал, кричал, что теперь он не станет физиком, отец занимался с ним. Самое ужасное – дети унаследовали болезнь матери, время от времени лежат в психушке. Только можно ли вылечить эту беду? Вот так нелепо сложилась жизнь. Пока человек жив, мы судим его, а уйдёт – жалеем.
Ну, и я не лучшим образом распорядилась собой, – продолжала Марина, – бросила свою жизнь коту под хвост. Если бы ты только знала, сколько унижений мне пришлось вытерпеть, Славка спал с другими чуть ли не у меня на глазах. Всё прощала, только бы вернулся. Теперь он раздражает меня – жалкий, раздавленный, называет "лапуленькой". Раньше бы так, а то слова ласкового от него не слышала. Наступить бы ногой и раздавить гадину, выгнать из квартиры. Ну да ладно, пусть живёт, некуда ему деться. А ведь я за эти квартиры ой как поплатилась, не на себя работала, всё на заказ – оформляла клубы, дома культуры, стадионы. Бывало, хотела всё бросить, послать к чертовой матери и вернуться к своей живописи, ради которой продиралась в Москву. Но… но я только мечтала о настоящем искусстве. Да что теперь об этом говорить. Я, когда в свою деревню ездила, – брата с сестрой искала, тех, что отец в детский дом определил, – зашла в свою школу. Все учителя сбежались: "Дарницкая приехала!" Я у них чем-то вроде легенды оказалась. Представляешь, по всем предметам одни пятёрки. Ботаничка говорила – ботаником будешь, географичка прочила в географы, учитель астрономии обещал блестящее будущее в своей науке. А я рисовала, как одержимая. Поступила в институт с первого же захода, а ведь не училась в художественном училище. Такого не бывает, а вот взяли. И что теперь? Весь мой талант на заработки ушёл, ничего настоящего не сделала. И всё любовь. Да и не любовь вовсе, наваждение какое-то было.
– Зато есть дети, – отозвалась Тайло. – Дочка, внуки и сын замечательный, по фотокарточке вижу.
– Да, мальчик способный. Не подцепила бы его какая-нибудь пустая девка.
Тайло ходила по Москве, избегая центра города – Манежной площади, напротив которой у старого здания университета из-за кустов сирени белеет на высоком пьедестале мраморный Ломоносов. Великий мыслитель земли русской вдохновляет сейчас новые поколения одержимой наукой молодёжи. Слева от памятника, если пройти чуть вверх – НИИ психологии, где она работала с Ноем... Его не стало, и ей там больше делать нечего. Почти все московские впечатления свелись к воспоминаниям о нём. После долгой жизни в Москве город так и не стал своим… В Александровском саду, где Тайло, сидя на скамейке, мысленно возвращалась к своей юности, шли вереницей, оглядываясь по сторонам, гости столицы. Их не трудно отличить от москвичей по восторженным лицам. Оказавшись здесь, под стенами Кремля, в первый раз, Тайло тоже когда-то старалась вместить в себя побольше впечатлений. И она долго стояла перед вечным огнём у могилы неизвестного русского солдата, воображая его героическую смерть. Потом тот солдат представлялся не обязательно русским. То символ миллионов погибших по злой воле одного, развязавшего войну. А ведь можно не воевать, всем хватит земли и неба.
"Сколько времени прошло, и ничего не изменилось в моей душе, – думала Тайло, вживаясь в события минувших лет, – кем бы ни была, ─ научным работником, учительницей, просто женщиной, вырастившей ребёнка, ─ чувствую себя всё той же девочкой, что видела из окошка низенького домика кусты кизила и всегда разное небо. Вечером и ночью лампочка на столбе у дороги высвечивала из темноты жёлтый круг, летом, случалось, он мерцал каплями дождя, а зимой тускнел в падающих хлопьях снега. Мне, закутанной в толстые платки, представлялись неведомые дали, удивительные люди; замирала душа от предвкушаемой радости, что и я окажусь в некоем чудесном далеке. Сейчас в центре красот Москвы, чувствую себя, как и прежде, потерянной в большом городе студенткой-первокурсницей".
Когда все дела по оформлению документов в израильском посольстве были закончены и получен билет на самолёт, время ощущалось остановкой между прошлым и будущим. Мысли о постижении замысла Всевышнего на Святой Земле представлялись воплощенными в истории народа. История народа и история одного человека... "Ничего бы я не могла изменить, если бы пришлось снова выбирать себя. В Экклесиасте сказано: "Человек не властен над духом настолько, чтобы удержать дух". И всё-таки… Ной говорил, что мы не можем управлять ситуацией, которая часто складывается помимо нашей воли, и потому биография души важнее биографии фактов".
Снова проводы, теперь уже в аэропорту. Женщины обнялись в последний раз, замерев на мгновенье, и Тайло ступила за турникет, отделявший улетающих от остающихся в России. Она ещё и ещё раз оглянулась на скорбно поникшую Марину, махнула рукой и оказалась в группе растерянных людей – никто не знал, что его ждёт в Израиле. Вот и она, давно поседевшая, должна начинать всё сначала. Заняв своё место в самолёте, расслабилась, несколько часов в дороге можно ни о чём не думать. Ведь самые трудные размышления уже позади. Уже решилась оставить Рути. Не навсегда, конечно. Рути приедет.
Первое ощущение Израиля – волна горячего воздуха, яркая голубизна неба, пальмы и чувство свободы. Спустившихся по трапу самолёта ведут оформлять документы. Через два часа ожидания тебе вручают паспорт, деньги и подадут бесплатное такси в любой город страны, кроме Иерусалима, тут нужно назвать того, кто ждёт тебя. А если никто не ждёт, можно доехать в такси до тель-авивской гостиницы и пристроить там в вестибюле к общей свалке сумок, чемоданов свои вещи. Затем отправиться на поиски жилья в Иерусалим.
Поселиться в городе, о котором мечтали предки, оказалось совсем не трудно – никакой прописки в столице не требовалось. Всего-то и нужно было найти дешевую комнату, дать в центре приёма репатриантов свой адрес, и через неделю-другую – ты полноправный житель, со всеми документами, счётом в банке и даже непривычной для человека из России чековой книжкой. Постепенно проходит страх – вдруг не хватит денег уплатить за квартиру, которая состоит из маленькой комнаты, закутка-кухни и туалета с душем. Зато в незанавешенное большое окно можно смотреть на небо. Сгладился и недавний ступор, когда стояла перед проглотившим банковскую карточку каспоматом[1], и не могла прочесть, что там написано на иврите – не снимет ли теперь кто-нибудь деньги с твоего счёта. Вскоре Тайло разобралась с автоматом, подсчитала все доходы–расходы и пришла к выводу, что можно позволить себе роскошь купить на улице бутылку воды за пять шекелей – ничего непоправимого с бюджетом не случится. Она чувствовала себя в Иерусалиме, словно когда-то жила здесь и сейчас снова вернулась туда, где пробуждалось её сознание.
"Если смотреть в окно поверх арабских домов, увидишь гору со срезанной вершиной. В ясную погоду на ней можно разглядеть разбросанные по склону белые домики, а во время ветров из пустыни из-за взвеси в воздухе не видно даже очертаний рельефа. Внутри горы вырублен подземный дворец царя-душегуба Ирода, куда водят экскурсии. За горой представляется беспредельная даль, уходящая в бесконечность времени. Тебя словно сдувает в эту бесконечность, и на мгновение проходит беспокойство, всегдашнее напряжение ума и души. Что есть человек? Всего лишь порыв ветра, легкое облачко, которое сейчас растает в утреннем небе. Никто не мог разрешить проблему человечества таким образом, чтобы не было войн и страданий. Откуда возникает чувство долженствования, справедливости? Почему невольно отождествляешься с поколениями, прошедшими по этой земле? Расслабиться бы и просто наслаждаться жизнью, ведь всё есть. Рассчитанное и распределённое пособие по старости избавляет от поисков заработка, а застраховав свою жизнь, позаботилась о Рути: теперь, если со мной что случится, она получит много денег".
Самое трудное время суток – когда начинает смеркаться; уставшая голова не в силах сопротивляться особенно острому ощущению своей отдельности, обособленности от мира. Появляется беспричинное беспокойство, сознание бесплодности усилий. Несмотря на все старания, Тайло так и не поняла, что от чего происходит в этом неодинаково добром ко всем мире. Комната в час угасания дня представляется замкнутым пространством, тут уж невольно ищешь просветов на быстро темнеющем небе. Пожилая женщина видит себя древним человеком – вот он, поседевший в одиночестве, сидит перед своей пещерой и смотрит на проступившие звёзды. Если ветер нагонит облака и пойдёт дождь, спрячется в своём каменном укрытии, разведёт огонь и, глядя на живые языки пламени, будет думать: стоит ли ему снова и снова преодолевать жизнь или лучше не делать усилий, и не вставая со своего ложа, слушать завывания ветра до тех пор пока всё не стихнет и не наступит конец.
Везде можно любоваться пейзажами, красотами городов, восходом солнца – встаёт ли оно из-за гор, выплывает ли из моря или вспыхивает первыми лучами на розовом камне иерусалимских домов. И в каждой стране есть связанные с историей памятные места. В Иерусалиме история представляется движением времени в поисках высшего смысла; здесь не столько любуешься, сколько вспоминаешь, представляешь себя на том или ином месте две, три тысячи лет назад. Вот и еврейские праздники связаны с воспоминаниями о реальных исторических событиях.
В районе Армон а-Нацив, невдалеке от дома Тайло, – дорога, по которой первый еврей Авраам шёл со своим долгожданным Ицхаком на гору Мориа, ставшую в дальнейшем для евреев Храмовой горой – центром мироздания. Нет, не могла Тайло отождествиться с патриархом, ведущим на заклание сына. Ещё и ещё раз сама мысленно ложилась на жертвенный костёр, только бы жила Рути и всё бы у неё сложилось хорошо. "Не мы выбираем судьбу, судьба выбирает нас. Разве я сама определила свою дорогу? Так случилось. И неизбывное чувство одиночества длиною в жизнь не я выбрала. А Рути? Но ведь и родные дети не всегда избавляют от одиночества. И откуда это неудовлетворенное желание знать, мы ли ищем истину или истина ищет нас? Только и делаю, что преодолеваю жизнь, хватило бы сил победить страх за дочку".
Стремление к истокам возвращает евреев на свою землю. В Экклесиасте сказано: "Бог вечность вложил в сердца людей". Вечность предопределяет ощущение бессмертия. Желание знать, что от чего происходит, Ной искал в прошлом опыте человечества. Вот и моё давнишнее недоумение по поводу несоответствия должного и реальности явилось стимулом поисков формулы сущности бытия. Эта первичная установка мышления выстроила всё, что случилось со мной. Математические аксиомы и моральные ценности Ной относил к области потенциального знания, наследственно приобретённого, иначе – врождённых идей, которые не имеют прямого отношения к чувственному миру. Воображаемый прообраз должного, иначе – скрытая сила души, предполагает то или иное восприятие действительности. Для Ноя понимать и верить было почти одно и то же. "Разум предшествует вере", – говорил он. Считал, что если бы у него хватило воображения представить непорочное зачатие и превращение человека в Бога, может быть, стал бы христианином.
Тайло снова и снова задавалась вопросом: провидение или слепой случай выстраивает ход событий? "Случайная встреча с Гочи во время грозы по дороге в школу подарила миг счастья: мы стояли под скирдой соломы, едва касаясь друг друга. Не мог тот миг продлиться долго, очень уж было хорошо, так не бывает. Умер Ной, иначе мы бы с ним не расстались. Теперь молю Бога, чтобы у Рути всё сложилось хорошо, пусть Всевышний моё несостоявшееся счастье отдаст ей". Тайло хотелось поделиться c дочкой знаниями, что накопила за жизнь, горами израильских фруктов на рынке, восторгом при виде иерусалимского ночного неба с двурогим месяцем, по обе стороны которого – две яркие звезды.
История народа, как и всякая история, связана с конкретными людьми. Тайло не могла вжиться не только в состояние Авраама, ведущего на заклание сына, но и в положение защитников горной крепости во время войны с римлянами. Когда сопротивление стало безнадёжным, защитники последнего оплота Иудеи, чтобы не стать рабами язычников, закололи друг друга. Оставшийся в живых должен был заколоть себя.
"А я могла бы убить?" – спрашивала себя Тайло. И не врага убить, друга. И всякий раз понимала – нет, не хватило бы силы духа, не поднялась бы рука. Не будь той войны, не было бы и рассеяния. А тогда сохранилась бы религия под владычеством Рима? Можно ли из прошлого исторического опыта понять настоящее и вообразить будущее?
Тайло, как и другие пенсионеры, прибывшие в страну без знания иврита, не могла найти работы по специальности, а мыть у состоятельных людей полы не было ни сил, ни необходимости. Денег хватало, и ничего теперь не мешало вернуться к книгам, что взяла из библиотеки Ноя, и к своим когда-то отложенным на неопределённое время записям. Прежние занятия, заполняя конечные дни, давали ощущение бесконечного продолжения времени. Перерывы в работе ощущались пустотой, которую невозможно заполнить никакими развлечениями. Разве что просто ходить по улицам Иерусалима, представлять себя во времена израильских царей и пророков. Согласно Писанию, всякий раз, когда в стране наступало благополучие, довольство, народ развращался; в лихие же времена обращался за помощью к Богу. И Тайло не раз возвращалась к мысли: а если бы всё хорошо сложилось в её жизни, стала бы искать справедливости в этом мире?
Вслушиваясь на улицах Иерусалима в разные говоры, недавняя репатриантка не переставала восхищаться разнообразием прекрасных лиц. Где ещё встретишь такие? В Израиле собрались евреи со всех частей света. Как ни смешивались, а сохранили генотип. Светлые, смуглые, рыжие – все двенадцать колен Израилевых. И темнокожие эфиопки – стройные с длинными шеями, похожие на выточенные статуэтки. И эфиопы, и йемениты считают себя племенем царицы Савской, которая отправилась в Иерусалим, дабы познакомиться с мудростью царя Соломона. Вернулась убеждённой в истинности его Бога и беременной его сыном. Соломон по такому случаю нагрузил караван темнокожей правительницы Аравии богатыми дарами и отправил с ним же тысячу учёных мужей. Мудрости этих знатоков хватило на три тысячи лет, в течение которых народ царицы Савской был верен единому Богу иудеев. Невольно сравнивались евреи из Йемена и Дагестана, те и другие изо всех сил сопротивлялись исламу, претерпели погромы, презрение, но сохранили своё имя – Дом Яакова – и мечту о своей земле.
"Если сохранность нашей веры, – думала Тайло, – объясняется долговечностью нашей миссии привести к золотому веку добра и справедливости все народы, следовательно, вопрос заключается в том, каким образом превратить мечту в действительность. В обозримой истории веков природа человека остаётся той же, и если бессилен разум изменить её, значит, только и остаётся признать преимущество веры над разумом.
Казалось бы, всё хорошо. Рути, открыв в себе талант лечения травами, зарабатывает на безбедную жизнь. И Фатима при ней. Однако в воображении Тайло рисовалась темная безлюдная тропинка от автобусной остановки к дому, и кусты, за которыми притаились желающие поживиться чужим кошельком. "Только бы они не тронули девочку, а та сразу бы откупилась от них". От страха каменело сердце. В этот момент, только и нужно было – услышать голос дочки. И ещё пугала схожесть обстоятельств своего и Рутиного появления на свет: отец ушел от мамы, когда та была беременной. И Фатиму в таком же положении бросил тот, кто обещал жениться. Тайло страшилась думать – а не является ли такое сходство ситуаций повторением судьбы? Если, разговаривая с дочкой по телефону, слышала в её голосе грусть, подавленность, то готова была хоть сейчас лететь к ней, но Рути твёрдо заявляла: "Не надо". Если голос был раздраженным, что означало: "Не приставай", Тайло терялась, думая о своей ненужности уже взрослому ребёнку. Невольно вспоминала бытующую в их краях пословицу: "Будешь растить чужого телёнка – в руках останется одна верёвка", то есть телёнок сбежит. "Это неправда, – протестовала приёмная мать против народной мудрости, – осталась моя любовь к девочке. Я благодарна за эту любовь, она привязывает меня к жизни. И Рути любит меня, хоть и не хочет слушать моих наставлений". Когда голос дочки был бодрым, приветливым, возвращалось ощущение легкости, новизны, свободы. В старости, если у детей всё хорошо, человек так же свободен, как в детстве, – не нужно ни о чём заботиться, переживать.
Тайло смотрела с галереи второго этажа банка "Леуми", что недалеко от её дома, на служащую, которая на первом этаже сортировала листочки. Наверное, то были однотипные квитанции, потому как работница банка, почти не глядя, раскладывала их по стопкам. Сверху был виден русый в крупных завитках волос затылок молодой женщины, покатые плечи и в глубоком вырезе блузки полная красивая грудь. Тайло незаметно оглянулась на стоящих рядом с ней в очереди мужчин, не видит ли кто из них столь соблазнительное зрелище, но взгляды спешащих людей были прикованы к медленно ползущей очереди.
Руки сортирующей квитанции служащей напомнили Тайло дни, когда она помогала маме перебирать овощи на базе консервного завода. Рядом с завёрнутыми в клеёнчатые фартуки подсобными работницами стояли ящики. Один – для хорошо сохранившихся плодов, другой – для чуть подгнивших, а в третий бросали совсем уж испорченные. Однообразные движения, скучные разговоры сидящих вокруг женщин создавали ощущение замкнутого пространства, безысходности. Через несколько дней такой работы наступала нестерпимая тоска, чувство обречённости. Хотелось бежать из темного сырого овощехранилища хоть куда. Это ощущение во многом определило ту ярость, с которой она вцепилась в учебники, мечтая поступить в институт.
"Какое счастье, что мне не пришлось сидеть за подобной работой!" – радовалась Тайло, глядя на руки служащей, раскладывающей по стопкам квитанции. Красивое, спокойное лицо женщины вовсе не свидетельствовало о страдании. "И жизнь у неё, должно быть, соответствующая – красивая и безмятежная. Интересно, как бы я себя чувствовала, окажись на её месте? Нет, не могла бы я вот так спокойно делать механическую работу, не дано мне. Всё спешу куда-то, не могу расслабиться, даже когда, казалось бы, нет никаких забот. И всегда жалко зря потраченного времени, словно кто-то подгоняет до чего-то додуматься, дойти".
Стоя в очереди, невольно смотришь по сторонам, вот и Тайло переводит взгляд на пожилую женщину с плоским будничным лицом и придумывает её жизнь: "Судя по облику, та из какого-нибудь провинциального российского города; долго висело в шкафу её давно не модное крепдешиновое платье. Надевала по праздникам, а теперь не жалеет – каждый день носит. А кольцо с бриллиантом на её натруженных руках смотрится случайным. Наверное, купила его перед отъездом в Израиль; продала квартиру, нажитое трудами хозяйство и купила. Иначе откуда бы взялась у экономившей на всем советской труженицы такая дорогая вещь. На доллары ведь не могла поменять свои деньги, вот и вложила весь свой капитал в ненужную безделушку. С руки кольцо не снимает, дома не оставляет – боится, что украдут, а если моет руки в общественном туалете, кладёт кольцо в рот, чтобы не забыть". Потом взгляд останавливается на другой, рядом стоящей в очереди женщине: "А эта бледная, совсем потерянная, смотрит в одну точку и ничего не видит. У неё, наверное, что-то случилось. Тоже из России, по лицу можно определить и род занятий – лицо аккуратной служащей, всю жизнь проработавшей на одном месте. В шляпе, значит – религиозная, здесь приобщилась. Нужно заговорить с ней, может, чем-нибудь смогу помочь".
– Сегодня так много народа в банке…
Соседка не прореагировала, будто не к ней обращались.
– В конце месяца всегда много народа, но не столько же, – продолжала Тайло. В ней всколыхнулось знакомое с детства чувство вины за неустройство человека.
Женщина, возвращаясь из своего горестного оцепенения, только и проговорила:
– Много народа…
– Вы такая грустная. У вас что-нибудь случилось? Может быть, смогу помочь?
– Помочь?
– Ну да. Я мало что могу, и всё-таки… Как вас звать?
Покончив с банковской операцией – всего-то и нужно было вложить чек на счёт хозяина квартиры, Тайло дождалась грустную женщину, и они вместе вышли из банка. Медленно направились вниз по улице мимо гастронома, бензоколонки.
– Так что же всё-таки случилось?
– Он ушёл! – горестно воскликнула попутчица. – Десять лет прожили вместе. Просто взял свои вещи и ушёл, когда меня дома не было. Ключ бросил в почтовый ящик. Разве такое бывает?! Уже месяц прошёл, а я всё не могу опомниться. Мне страшно возвращаться в пустой дом. У сына своя семья, внуки уже взрослые, армию отслужили, а я одна. Я никогда не была одна. После смерти мужа у меня были мужчины, потом сошлась с этим проходимцем, он любил мою кухню. А сейчас на старости лет никому не нужна, не знаю, куда себя деть. Мне ведь уже за семьдесят.
– Вы очень молодо выглядите.
– Спасибо. Только что с того, если мужчины отворачиваются от меня. Спрошу у кого-нибудь на улице, который час, а они будто не слышат, мимо идут. Может, зайдёте ко мне, я живу рядом, совсем близко. Пожалуйста, прошу вас.
Спустя несколько минут Тайло сидела в уютной, обихоженной квартире, и Малка, так звали новую знакомую, подавала на красивых тарелках с салфетками, разными вилочками, ложечками необыкновенно вкусную рыбу в маринаде и чай с домашним вареньем, пирогами.
– Вы так вкусно готовите! – восхищалась гостья.
– Не могу остановиться, – вздохнула хозяйка, – очень люблю готовить. И вот оказалось – некому.
– А в предыдущей – российской – жизни вас тоже звали Малкой?
– Нет, в России я была Мусей.
И Муся, то есть Малка, пустилась в подробные объяснения рецепта приготовления своего маринада. Потом рассказывала о разных способах выпечки пирогов.
"Разве можно любить стоять у плиты, – молча недоумевала Тайло. – А ведь кому-нибудь такая женщина могла бы скрасить холостяцкую жизнь".
Малка стала звонить каждый день. С утра пораньше приглашала на прогулку, потом отдыхала, а ближе к вечеру невозможно было устоять перед её мольбами. "Не оставляйте меня одну", – чуть ли не плакала она в трубку. Если Тайло не было дома, сидела на скамейке у её подъезда – ждала с предложением пойти или поехать куда-нибудь вместе.
– Только не бросайте меня, а то я целый день одна, и ночью одна. Я не могу одна.
– Почему же одна, у вас здесь сын, внуки, и всё у них хорошо.
– Это так, но у них своя жизнь, я их редко вижу.
– А я была бы самая счастливая, если бы моя дочка жила в Израиле, знать бы только, что она устроена и дети есть.
Особенно плотным стало общение в субботние дни. Вместе ходили в синагогу, вместе сидели за торжественно обставленной трапезой. Тайло теперь во всех подробностях знала не только рецепты Малкиных блюд, но и правила быта. Например, если ты одолжила у соседки луковицу, нельзя возвращать луковицу большего размера. А если тебе в субботу нужно застегнуть булавку, то застёгивать её следует таким образом, чтобы концы ткани не соприкасались друг с другом. Всё имело своё объяснение: давший луковицу не должен ждать вознаграждения за доброту, то есть получить луковицу больше той, которую дал. А не по правилам застёгнутая булавка считалась непозволительной в шаббат работой. Работой считалось и пользование обычным мылом, оказывается, в шаббат можно мыть руки только жидким мылом. Рассказывала Малка и о правилах забоя скота.
– Ну уж эти подробности мне совсем ни к чему, я ведь не собираюсь быть резником, – протестовала против излишних объяснений гостья.
– Но как же, ведь это заповеди, по которым следует жить. Так постановили мудрецы, и не нам рассуждать, – настаивала на необходимости своих повествований хозяйка.
– Иудаизм не сводится к обиходным предписаниям, ─ сдерживая досаду, проговорила гостья. – Недавно читала Маймонида, так он считает недопустимым без понимания и исследования придерживаться того или иного мнения только из уважения к лицу, высказавшему это мнение. О том, что предание не может заменить рассуждение, сказано и в Талмуде. Дословно передаю: "…только лень и несерьезное отношение к Богу и Его учению препятствуют углубиться в предмет разумом своим". За нерадение человек будет наказан.
– У меня свой наставник, ─ обиделась Малка. ─ Я раньше тоже, как и ты, книжки читала, особенно стихи любила. Теперь вся моя поэтическая библиотека в туалете на антресолях лежит. Лишнее это, в Торе всё сказано. Наше дело исполнять.
─ В Торе не сказано о мелочных предписаниях.
─ Я религиозный человек, евреям запрещено философствовать, – со знанием дела заявила Малка.
– Кто сказал такую глупость?! – раздражается Тайло. – Истины Торы, науки и философии не только не противоречат, но подтверждают друг друга. При этом религиозное образование предполагает знание и светских предметов. В противном случае исключается всякое развитие. Маймонид – философ, ученый и врач – ещё в средние века говорил о соотношении веры и разума.
Про себя Тайло давно поняла: если невозможно вычислить и выстроить судьбу, то есть просчитать причины и следствия, то только и остаётся делать, что в твоих силах. Глядя на поджавшую губы Малку, вспомнила, что преподавательница иврита в ульпане, с которой были добрые отношения, собирается познакомить её с вдовцом на предмет совместной жизни. "Я этого человека вряд ли осчастливлю, для меня кухня – наказание, а для Малки – подарок судьбы". Мысль о том, чтобы переадресовать недавно обретённую приятельницу вдовцу, представилась спасением от невыносимо плотного общения с ней.
В дождливый декабрьский вечер женщины едут в гости к незнакомому для обоих Виктору. Малка ни о чем не спрашивает, ей всё равно, куда и зачем, только бы не оставаться дома одной. Тайло хочет представить Виктора, к которому они едут, похожим на Ноя: подвижным, с быстрым взглядом внимательных глаз. "Если такое случится, возьму его себе, а нет – отдам Малке. Это в молодости нужно выходить замуж, чтобы дети были, а сейчас может случиться, что одной лучше, чем вдвоем".
Женщины поднялись в лифте на пятый этаж. Тут же открылась на лестничной площадке дверь, навстречу вышёл большой неопрятный человек. Его опередил красивый пятнистый дог. Пёс бросается к Тайло, радостно машет хвостом, прыгает, тычется ужасно симпатичной мордой. К ней же направляется и хозяин.
– Виктор, – протягивает он руку.
Тайло вглядывается в мутные, словно со сна, глаза человека, знакомство с которым состояло всего лишь в телефонном разговоре о времени свиданья, и тут же решает: "Нет, не моё".
– Я Малка, а это Тайло, – указывает она на спутницу.
Виктор, ожидая гостью по имени Тайло, тут же переключается на Малку, переключился на неё и пёс.
Женщины стоят на пороге комнаты, заставленной горшками с разными растениями; горшки на подоконнике, на полу.
– У вас прямо ботанический сад!
– Да, я ботаник-любитель. Экспериментирую! – гордо заявляет хозяин. – Вот этот кустик сначала засох, я не знал, что с ним делать, а через полгода он выпустил листочки. Смотрите. Нет не сюда, вот здесь. Видите? А эта травка, вы знаете, как она называется?
– А можно, мы пройдём в комнату? – спрашивает Тайло, выбирая свободное от горшков место, куда можно ступить.
– Конечно, конечно! Проходите, располагайтесь, где вам удобно.
Малка смущённо присела на краешек стула, а Тайло, чтобы подчеркнуть скромность приятельницы, вальяжно расселась на диване.
Виктор тут же стал вытаскивать из всех углов и расставлять перед гостями горшочки с проклюнувшимися из земли ростками.
– И ведь что интересно, – говорил он, – стоит поменять грунт, удобрения, освещение, и совсем разные результаты. Всё, буквально всё сказывается на росте моих питомцев.
Малка, которую хозяин называл Тайло, млела от восторга, Тайло же, напротив, не проявляла интереса.
– А чай у вас есть? – с вызовом спросила она. – На улице холод ужасный, дождь, мы замёрзли.
– Конечно, конечно! – засуетился Виктор и тут же, забыв о чае, продолжал показывать и рассказывать, когда и по какому случаю он высадил тот или иной кустик.
– Хочу чаю, – повторила Тайло. И чтобы снова подчеркнуть контраст между внимающей словам растениевода Малкой и собой, потребовала и чего-нибудь к чаю.
– Да, да, конечно! – спохватился хозяин и принёс разные пластмассовые банки с удобрениями. – Всего-то и требуется несколько капель, – с увлечением говорил он, – одни растения нужно поливать с удобрением один раз в месяц, другие – один раз в неделю. Трудно помнить обо всём, так я записываю.
– Вы забыли включить чайник.
– Ах, да извините, нет у меня слушателей, вот и приходится подолгу молчать, а тут... Одну минутку – включаю. Вы не поверите, но все мои подопечные ведут себя по-разному. Одни могут целую неделю обходиться без воды, за другими нужно следить – день не польёшь, и тут же вянут.
– Чайник вскипел, и уже, наверное, остыл, – нарочито громко вздыхает Тайло.
Женщины уходили довольные – сватовство состоялось. Малка рассказывала:
– Когда он стоял рядом со мной, показывал высаженный черенок пассифлоры, я чувствовала: он хочет меня.
– А ты?
– И я тоже. Такой волнительный мужчина! Но самое удивительное: я его недавно видела по русскому каналу телевидения. И его, и его оранжерею, он рассказывал о себе. Растения – его хобби, а на самом деле он инженер. Говорил, что жена недавно умерла, теперь один живёт. Я взмолилась тогда перед телевизором: "Мне бы его!" И вот – чудо!
– Чудо! – подтвердила Тайло. – Прямо как в сказке, всё сошлось одно к одному – ты замечательно готовишь, и он любит своё дело.
– Нам будет хорошо в постели, я это сразу почувствовала. Мы с ним оба козероги, в плане секса идеально подходим друг другу. А ты можешь завести себе кошку, чтобы не быть одной.
Тайло промолчала. Она радовалась освобождению от назойливого внимания Малки. Огорчало лишь то, что пёс так быстро потерял к ней интерес, наверное, обиделся, что пренебрегла его хозяином.
– А почему бы тебе и в самом деле не завести кошку? – настаивала Малка на своём, как ей казалось, спасительном предложении.
Тайло снова промолчала, ведь не объяснишь, что к вопросам, которые она пыталась решить всю свою жизнь, а именно – понять, каким образом небесный закон справедливости воплощается на земле, кошка не имеет никакого отношения. Вот и растениевода не могла представить причастным к своим поискам. Чужой человек, и его слишком много – требовал бы постоянного внимания к своим повествованиям о том, что в каком горшке растёт. Хотя сам по себе он, наверное, человек неплохой.
– Устрой себе лёгкую и приятную жизнь. Что ты носишься со своими книгами, бумагами. Надо жить сегодняшним днём, – продолжала Малка.
– Не хочу лёгкую и приятную, хочу серьёзную...
– Хочешь своей наукой осчастливить человечество? – прервала Малка. – Никому это не нужно, в Торе всё сказано. Воображаешь себя скалолазом, который, рискуя жизнью, лезет к вершине, а она окажется всего лишь пригорком.
Тайло ничего не ответила, хотя и был соблазн послать свою случайную знакомую куда подальше. Уже не в первый раз прерывали на полуслове с заявлением, что никто не нуждается в её трудах – ведь в Торе всё сказано. "Для кого я стараюсь? – думала она, возвращаясь в свою одинокую берлогу, которая во время дождей была особенно неприютной. – Всё зря. Не нужны мои мысли, наработанные знания. Ну что ж, за неимением живого собеседника буду общаться с Виленским гаоном. Будучи символом исключительной святости и учёности, он ещё в восемнадцатом веке говорил о необходимости изучения светских наук, незнание которых влечёт за собой пробел в знании Торы. Величайшее призвание человека, считал гаон, в неутомимом поиске истины. Самому нужно дойти до всего, мудрость приходит к ищущим. Вот и Рай считается местом блаженства, где человек наконец-то постигает причины и следствия всего происходящего в мире. Это там – в раю, а здесь – в этой жизни – ничего не остаётся, как согласиться со скептицизмом Коэлета, что одна участь у умного и глупца. И ещё с обращёнными к несчастному Иову словами Всевышнего: "Мой разум – не твой разум". Но если человеческий разум упраздняется в познании промысла Божьего, в чём же богоподобие человека, его партнёрство со Всесильным? Однажды я спросила об этом у авторитетного знатока Торы, который в недавнем прошлом был в Москве комсомольским вождём. "Значит, вы не верите в Бога", – ответил тот. – "Напротив, – возразила я, – именно потому, что верю, хочу справедливости в этом, а не в другом мире".
Все мои умствования приводят к ищущему, страдающему человеку, который изо всех сил преодолевает жизнь. Конец у всех один, вопрос в том, как идти к нему. Владыка мира испытывает нас, но и мы кричим Ему о справедливости. Справедливость – высший критерий истины не только ради взыскующего смертного, но и ради самого Создателя.
Есть мнение, что проблемой Бога до создания человека было Его одиночество, – размышляла Тайло по дороге к дому. – Вот Он и сделал собеседника по образу и подобию Своему; и с каждым из нас ведёт отдельный разговор. Может быть, поэтому в Святая Святых нашего Храма было пусто; пустота предполагает многообразие. Это как белый цвет, который содержит в себе все цвета радуги…".
Подняв глаза, Тайло увидела прямо перед собой освещённую пробившимся из-за туч лучом удивительно красивую сосну – всю в побегах молодых ярко-зелёных шишек. Плодоносное дерево! На земле валяются старые вылущенные шишки, а в круглой кроне сосны много-много новых, как свечечки стоят. И давно немолодая женщина, как в детстве, ощутила зимой весеннее чувство радости – птицы поют, воздух пахнет морем и хочется куда-то стремиться, бежать.
Через несколько дней Виктор с догом переехал к Малке, свою небольшую квартиру оставил под оранжерею. Недавно растерянная, отчаявшаяся Малка вмиг обрела уверенность, перестала звонить своей свахе, а когда они случайно встретились в гастрономе, гордо заявила, что в любом случае всё бы сложилось у неё хорошо, ведь она всегда нравилась мужчинам и никогда не была одна. Новобрачная повезла мужа в Москву знакомить с оставшимися там родственниками. Обрадовавшись оказии, Тайло попросила её передать конверт с написанной в Израиле статьёй Тане, той самой, которую Ной называл суфражисткой. Таня сама зашла бы к ней за пакетом. Малка отказалась, сославшись на то, что у неё много вещей – перевес.
– Но конверт весит всего лишь сто граммов, – растерялась Тайло.
– Двести, – поправила Малка, взвесив на руке пакет.
Репатриантам в пожилом возрасте трудно начинать новую жизнь, они продолжают думать над проблемами, которые их занимали прежде. Из бывших коллег НИИ психологии Тайло поддерживала связь только с Таней, у которой мало что изменилось за прошедшие годы. Всё так же она работала старшим научным сотрудником в отделе психофизиологических различий, и квартира осталась той же на старом Арбате. С последним любовником много раз сходилась, расходилась; их отношения ни к чему друг друга не обязывали. Он её не устраивал по причине материальной бесперспективности, а ему с ней тоже было ни к чему – не было чувства покоя, уверенности. В конце концов, Таня осталась с огромным яростным Тамерланом – котом "голубых кровей". Она присылала его фотокарточки, начиная с двухнедельного возраста, подробно писала о звериных повадках и человеческой привязанности своего любимца. Тамерлан благоволил к женщинам и не жаловал мужчин. Ещё когда был маленьким, вскарабкивался на вешалку и прыгал на голову вошедшему гостю в меховой шапке. А подрос – стал прыгать на голову гостя, даже если вместо меховой шапки была лысина. С женщинами был деликатен, ласков, тёрся об их колени, поднимал хвост, что означало высшую степень расположения. Таня ревновала. Больше всего кот не любил, когда хозяйка уходила из дома. Крутился у неё под ногами и смотрел так, будто у него, брошенного сироты, сейчас разорвется от печали сердце. Если она долго не возвращалась, сидел под дверью – ждал. Случалось, Таня задерживалась, тогда Тамерлан от злости царапал мебель, рвал занавески и демонстративно справлял нужду не в свой ящик с песком, а рядом. Когда хозяйка возвращалась – сначала изображал смертельную обиду, затем неуёмную радость, при этом ни на шаг не отходил от неё. И кушать садился рядом, Таня ставила ему тарелку на стол и он, сидя на стуле, деликатно слизывал кусочки мяса, колбасы. Он же спасал Таню от бессонницы, ночью ложился к ней за спину, и она, согретая его длинной, как у мериносной овцы шерстью, засыпала под тихое мурлыканье. Породистый, страстный Тамерлан в каком-то смысле отвечал бывшему максимализму своей хозяйки – статус профессора плюс страсть молодого цыгана, и никаких компромиссов.
После перестройки зарплаты старшего научного сотрудника и пенсии Тане едва хватало на прокорм себе и коту. Много денег уходило на сигареты, пыталась бросить курить – не получалось. В последний раз, когда разговаривали по телефону, рассказывала: "Целую неделю продержалась. Больше не вытерпела. Поздно вечером, когда магазины были уже закрыты, постучалась к соседу-забулдыге, что живет этажом выше. Тот дал самую паршивую папиросину "Беломор". Не дойдя до своей квартиры, опустилась на ступеньку, закурила и заплакала от счастья".
Будучи в курсе израильских проблем, Таня объясняла разделение политиков на "правых" и "левых" особенностями их психофизиологических различий, то есть темпераментом и преобладающей активностью правого или левого полушария мозга. Сильная, энергичная женщина, она была на стороне правых; их бескомпромиссность и нежелание отдавать землю считала спасением для Израиля. "Левые же – меланхолики, слабаки – погубят страну", – писала она Тайло. Удивлялась евреям, которые поддерживают левых, – неужели непонятно, что в настоящей ситуации политика уступок и реверансов не спасет. Надежду на миролюбие арабов относила на счет поведения людей, которым легче уступить, согласиться, чем воевать. Тайло радовалась единомыслию с бывшей коллегой, писала ей, что уход с территорий приводит к депрессии, неверию в будущее. Что же касается арабов, то наша мягкотелость делает их ещё более агрессивными.
Таня писала о состарившихся коллегах, которые не уходят на пенсию, потому как дома им делать нечего, да и не проживёшь на обесцененную пенсию. Писала, что срубили старую черёмуху, что росла у неё под окном и весной засыпала комнату белыми лепестками. Теперь от былой красавицы, на которую все оглядывались, остался черный пенёк. Писала, кто в институте ушел в другой мир, кто уехал за границу; завидовала евреям, получившим возможность перемещения. Виктор, тот самый, который когда-то начал было ухаживать за Тайло, а потом стал делать карьеру по административной части, с начала перестройки уволился из НИИ и открыл свой бизнес, связанный с компьютерными программами. Страшно разбогател, купил особняк с личной охраной. Прежнюю семью оставил, женился снова – на молодой, хотя и первая жена была намного моложе его..
Тайло вспомнила тягостное чувство двадцатипятилетней давности, нет, не потери, а какого-то провала-пустоты. В тот день они с группой в несколько человек поехали на экскурсию в далёкую подмосковную усадьбу. Так случилось, что они с Виктором отделились от всех, и оказалось, что им придётся идти на станцию через лес только вдвоём. Решительность спутника не предвещала мирной дороги, и она предложила идти к станции не лесом, а по шоссе. Виктор понял её категорическое нежелание уединиться с ним в лесной чаще, обиделся и ушёл. Оказавшись одна, Тайло вышла на безлюдное шоссе. Мимо со свистом проносились машины, было страшно. Всё время нужно было прижиматься к обочине, шаг в сторону – глубокий овраг, а когда рядом притормозил грузовик, стало совсем не по себе – убегать было некуда. На счастье из-за поворота вынырнула следующая машина, и те, что притормозили, двинулись дальше.
В минуты растерянности, тоски возвращался страх той пустынной дороги, где всякое могло случиться. Сейчас, думая об упущенном женихе, радовалась; соблазнись она тогда возможностью устроить свою жизнь с чужим человеком, не оказалась бы сейчас в Израиле. И не возникло бы удивительного чувства узнавания, простора души, будто уже жила здесь и давно знала то, о чем читает сейчас в книгах еврейских мудрецов.
"Ты права, – писала Тайло Тане в Москву, – темперамент, в каком-то смысле, определяет поступки, мировоззрение. При этом темперамент вторичен, главное – идея, которая есть не что иное, как вера. Идея возвращения евреев на свою землю, идея праведности организует волю, рождает сознание ответственности не только за существование Израиля, но и перед Богом, который дал нам эту землю; впрочем, это одно и то же. У "левых", насколько я могу судить, нет этого чувства, нет уверенности в нашем праве жить, как они говорят, "на оккупированных территориях". И тогда непонятно, почему они не уезжают отсюда.
Человек, ищущий смысла, обращается к Всевышнему; это потребность души и разума. В противном случае жизнь становится набором случайностей. Вера – интуитивное прозрение истины. Наука не только не противоречит вере, но утверждает её. Многие астрономические открытия были обозначены в Торе задолго до их научного подтверждения с помощью современных оптических приборов, расчётов. Да и только ли открытия астрономии. То же – в биологии, медицине. Идею прививок Луи Пастер позаимствовал из Талмуда. И никакой мистики. Археологические раскопки, последние исследования учёных свидетельствуют о подлинности многих описываемых в Торе событий. Также и ощущение бессмертия души не нужно доказывать, как и веру в Бога. Это что-то вроде врождённой данности – или есть, или нет. В противном случае откуда бы взялось представление о том, что мы живём перед лицом Создателя.
Ты же помнишь, – герменевтика, которой занимался Ной Соломонович, не носила отвлечённого характера. При объяснении неожиданных открытий, вдохновения, он апеллировал к интуиции. То, что считалось мистикой, в его работах нашло конкретное подтверждение. О природе интуиции на бессознательном уровне прочти его изданную посмертно книгу. Ной Соломонович был из рода священнослужителей – коэнов, он с детства был приобщен к талмудическому мышлению, то есть – к многозначности этого мира. В Каббале – философском осмыслении иудаизма – я тоже не вижу никакого чародейства. Понятия Каббалы Ной переложил на язык психологии. Кстати, Платон, в отличие от Фрейда, определял Эрос не столько как половую любовь, сколько как влечение к "идеям", знанию. Может быть, в этом и заключается мистический элемент творческого мышления".
Таня соглашалась со своей бывшей коллегой и обещала отдать её статью в готовящийся институтский сборник, с той лишь оговоркой, что статья будет носить заглавие "К истории вопроса познания", и тогда станет правомерным сравнение Каббалы с современными теориями познания не только в границах постигаемого, но и за их пределами.
"Всё то же самое, только термины другие", – объясняла Тайло. Писала она и о своем интересе к Кабале, согласно которой мир сотворён буквами еврейского алфавита, соответствующими определённому числу. "Ничего не противоречит логике: десять первичных чисел, или "сфирот", организуют сознание человека, его духовный потенциал. Самое главное – "воля". Воля к знанию, добру, она же – усилие в подавлении дурного начала. Воля – основа становления личности. Далее – чувства, разум. Даже в таком понятии, как пророческий дух, экстаз, откровение, я не увидела ничего таинственного. Речь идёт об описываемом многими художниками и учеными состоянии прозрения, когда представляется, что наитие, нечто таинственное движет ими как струнами музыкального инструмента. А в действительности состояние вдохновения – результат эмоционального отклика, особенностей психики и упорного труда. Кстати, не я первая понимаю Каббалу как рационалистическую философскую и психологическую систему".
Тайло мысленно возвращалась ко времени своей работы в НИИ психологии, когда Таня в кожаной юбочке с открытыми коленками носилась по институту. Всё в ней было красиво – изящная брюнетка с супермодной короткой стрижкой, она и курила как-то особенно элегантно. Видела Тайло и себя тогдашнюю: медлительную, в тёмном, всегда скромном платье, которое Таня называла монашеским одеянием. Горские евреи, выросшие в суровом краю мрачных скалистых гор, где одежда и человеческие отношения обходились без излишеств и театральности, не жили ради удовольствия и развлечения. Более склонные к грусти, одиночеству, чем к веселью и общительности, они ко всему относились строго, серьёзно. У женщины был один мужчина, один от начала и до конца дней своих; стоило ей оступиться, как тут же она оказывалась позором для всей семьи. В Москве цивилизация раскрепостила людей, дала им свободу отношений, но и лишила цельности, выстроенности жизни.
Теперь, по прошествии многих лет, Тайло словно поменялась с Таней темпераментом: её движения стали быстрыми, чёткими, не оставляло сознание постоянной нехватки времени; сколько ещё нужно успеть прочитать, понять. Таня же, наоборот, замедлила свой бег; у неё оказалось много свободных вечеров, когда не знала, куда себя деть. Мужчин её возраста, то есть тех, которым за шестьдесят, в упор не видела, в письмах она их называла "стари-ка-кашки", а молодые, если и появлялись, то ненадолго. Кот Тамерлан, при всей своей любви к хозяйке, спал шестнадцать часов в сутки. Некогда экстравагантная, роковая женщина, имеющая, казалось бы, неограниченные возможности осталась наедине с собой и всё больше теряла надежду на быстро сменяющиеся жгучие впечатления. Ранее неизведанное чувство одиночества сближало её с Тайло, та давно искала себя в уединенности, тишине библиотек.
"Бог в религии и философии, – писала Тайло коллеге, которая связывала её с русскоязычным научным миром, – мыслится сущностью, дающей начало сознанию и воле. Сущность мерещится как мираж в пустыне, и всё потому, что человек не может примириться с несправедливостью этого мира. Можно позавидовать ортодоксам, которые соблюдая букву Закона, ни в чём не сомневаются и не задают вопросов. А я всё ищу истину, которая, наверное, у каждого своя. Вот и пришедшее с Востока религиозное чувство бесконечного все понимают по-разному. По мне – так в следующем воплощении я начнусь с того состояния сознания, которым окончусь в этом. Не потому ли существует мнение, что каждый человек имеет свой прообраз, являющийся источником скрытой силы души. Вновь пришедший в этот мир начинается с чувства узнавания – "моё – не моё"; это относится к предпочтению тех или иных занятий, выбору друзей. Хочу думать, что вновь появлюсь на свет в ивритоязычной семье, и незнание языка не станет препятствием для постижения накопленной веками мудрости. Истина одна, интересно соотношение букв ивритского алфавита с пифагорейской теорией чисел. У пифагорейцев весь небосвод соотносится с числами, и душа, и ум – тоже число. Различные комбинации чисел образуют тайну бытия, Божественного промысла. Мир сотворён числами или буквами; каждая буква ивритского алфавита имеет определённое число. А если расположение звёзд, ум и душа человека – числовые соотношения, то не отсюда ли происхождение гороскопа? Впрочем, у евреев Бог – над звёздами, и может изменить их предсказание. Здесь, в Израиле, я ощущаю себя между небом и землёй, у меня появилось чуть ли не осязаемое восприятие вечности".
Радость по поводу причастности мудрости своего народа, чувство прозрения увядают, если поздно вечером Рути не оказывается дома. Тайло звонит чуть ли не каждые пять минут, но в трубке длинные гудки. Страх парализует мысль и волю, ощущение, будто из тебя выходит воздух, и остаётся одна усыхающая оболочка. Позвонить ещё позже Тайло не решается, вдруг снова услышит длинные гудки. И что тогда думать? Фатима сейчас в своём селе, а Рути осталась в городе. Уже час… два часа ночи, а Тайло всё никак не может уснуть. Пьёт снотворное – не помогает. Выпила бы ещё, но боится, что утром не проснется, и никто её не хватится, не будет искать. Зажигает свет и пытается читать – не получается, голова тяжелая. Закрывает глаза – мерещится чёрная пустая улица, дальше – провал… Открывает глаза – луна в окно смотрит. Снова и снова пытается забыться, уснуть. Привиделось, будто держит маленькую дочку за руку – они идут куда-то. У Рути в темноте белеют два передних зуба, как у кролика, она что-то говорит, но ветер относит слова. Тайло отлучилась всего лишь на секунду, и девочка исчезла. Ищет её и не может найти. Видения, в которых теряется дочка, повторялись, и всякий раз становилось безысходно, страшно, немела душа.
Если после бессонной ночи поднять голову и вглядеться в бледнеющий на рассвете круг луны, медленно меняющееся очертание облака, тогда время твоей жизни представится мгновеньем, за которое исчезает капля росы на траве. "А не придумала ли я свою жизнь? Люди живут реальными вещами. Мой брат с семьёй сейчас в Канаде, он не читает книг, не старается понять, что от чего происходит, и всё у него хорошо, всё есть – дети, внуки. А я…, я ждала необыкновенной любви – любви Гочи. И поиски формулы справедливости тоже на уровне мечты, которая почему-то представлялась реальностью. Вот и Марина поплатилась за своё неуёмное воображение, увидела в Славике античного бога, воплощение красоты.
Как преодолеть бессонницу? Что с того, что узнала об отличии мудрости от разума и знания в Каббале, если осталась всё той же – зависимой, беспомощной, не могу справиться с беспокойством и страхом за Рути. Как преодолеть страх? Сколько бы я ни говорила себе: девочка уже взрослая, не нужно приставать к ней, но если два дня не слышу её голоса, болит сердце. Надо думать о хорошем, например, представить Рути невестой, в её честь поют песни – прославляют красоту и скромность. Неважно, что она не красавица, ведь речь идёт о внутренней красоте. Привиделось в полудрёме: зашла в тёмное подвальное помещение, там навалены груды книг, и только один старик в ветхих одеждах – среди всех этих пыльных сокровищ. Мне предоставлена возможность отыскать здесь книгу, в которой найду ответ на свои вопросы. Однако жизни не хватит переворошить эти груды книг, чтобы отыскать единственную. Я спрашиваю у старика, хоть и знаю – нет той, которая мне нужна. Хранитель накопленной веками мудрости не ищет, сразу направляется к известному ему месту, вытаскивает из груды ту, что я просила, – маленькую, очень старую книжечку, и протягивает мне".
Утром звонит телефон, Тайло молит Бога, чтобы то была Рути, судорожно хватает трубку. Это она! И Тайло благодарит Создателя – теперь можно жить дальше.
Тайло экономит деньги, чтобы послать дочке, но та отказывается, говорит – им с Фатимой хватает. И получается, что предоставленная самой себе пожилая женщина стала совсем уж непричастной к жизни своего ребёнка. Не хотелось мириться со своей ненужностью; мысль о независимости страшила. Казалось, будто её тоска, беспокойство стерегут дочку. Когда Рути на целую неделю оставалась в селе у Фатимы, где не было телефона, Тайло сникала, утром просыпалась с ощущением спелёнутого мертвеца – вытянувшись, лежала на спине, и незачем было вставать. Обессиленная страхом, так бы и лежала, не двигаясь.
Спасала работа. Сидя в библиотеке Тайло забывала о своем старческом бессилии и необходимости смирения. Всё с тем же юношеским нетерпением открывала каждую книгу – не здесь ли найдет ответ на свой давнишний вопрос о соотношении закономерности и случайности в истории и судьбе отдельного человека. В Национальной библиотеке при университете, среди книг, которые незадолго до смерти сдавали туда приехавшие из России учёные, можно было найти нужные материалы для работы над очередной статьёй. Тайло пыталась представить бывших владельцев книг, прочитать оставленные ими на полях пометки, понять, о чем они думали. Наверное, так же как и она, пришли к выводу: люди, которых ты любил, не ушли из твоей жизни, они вновь и вновь возвращаются в мыслях, видениях.
Только вот некому в Израиле показывать новую статью. Конечно, кто-нибудь в университете занимается проблемой творческого мышления, но как обратиться к этому человеку без знания языка? Случилось однажды что-то вроде научной конференции для репатриантов. Какая-то эксцентричная дама взяла инициативу на себя и организовала в своём городе Ашкелоне съезд русскоязычных учёных всех специальностей. Жалкое получилось зрелище. Недавно по телевизору выступал русскоязычный член Кнессета, говорил о низком уровне образования в нашей стране, о том, что израильские школьники на международной олимпиаде по математике чуть ли не сравнялись со школьниками Зимбабве. Тайло послала тому русскоговорящему члену Кнессета свои методические разработки с предложением перевести их на иврит. В ответ получила готовность ратующего за образование депутата дать хорошую рецензию на присланную ему работу. А на вопрос: куда идти, и к кому обратиться с этой рецензией?", ответил: "не знаю". Вот и остаётся единственный адресат научных исследований – Россия. Горько сознавать, что никому в твоей стране не нужен наработанный годами опыт. Тем более, что не ждешь никакой платы за свой труд, только бы взяли и пользовались.
Привычная обстановка читального зала с шелестом страниц в тишине возвращала силы и давала ощущение бесконечности познания. Оглядывая стеллажи с книгами на разных языках, Тайло невольно вспоминала давнишнюю зависть к Тане-суфражистке. Та могла читать на английском, французском. "Может быть, не так важны математические доказательства некоей формулы справедливого устройства мира, главное, что чувство справедливости живёт в нас", – писала она Тане. Писала и о своих сомнениях по поводу возможности понять соотношение воображения и реальности, казалось, мысль и действительность существуют сами по себе. Точку пересечения мышления и бытия Пифагор видел в числе; числа организуют мир. Это – теория, а каким образом перейти к конкретной жизни отдельного человека? Опять же вопрос: Что является истинной жизнью, действительность или мысль? Наверное, мысль, ведь она определяет наш выбор.
Звонила из Америки Софико, она тоже сейчас одна живёт. Взрослые сыновья давно отделились, муж умер. Софико зовёт к себе в Чикаго разделить с ней просторную квартиру с двумя туалетами. "В нашем возрасте никакая дружба не спасёт от самой себя, всё равно останешься наедине со своими мыслями, судьбой, – раздумывала над приглашением подруги Тайло. – Да и из Израиля никуда не уеду, мне хорошо здесь. Это мой дом, в котором я живу по праву наследия. Страстная Софико, судя по фотографиям, и в шестьдесят с лишним лет красавица, до сих пор ходит на высоких каблуках. Сколько минуло весен и зим с тех пор, когда увидела её на школьном дворе, где в окружении детей она смотрелась алым гладиолусом среди скромных полевых цветов. У неё и сейчас ярко-рыжие волосы, и не важно, что теперь она их красит. А где сейчас Гочи, на последнюю парту которого мы оглядывались с ней? Ничего не знаю о нём. Помнится властный голос его жены, означающий абсолютную власть над мужем.
Теперь, когда я боюсь за Рути, всё чаще вспоминаю маму. Она никак не могла насмотреться на меня, приехавшую из Москвы на каникулы. Очень ей хотелось чем-нибудь порадовать меня, вкусно накормить. Однажды на иерусалимском рынке, я спряталась от дождя в маленькой лавке продавца специй, где не оказалось ни одного покупателя. Полки вдоль стен были уставлены стеклянными банками с разными сушеными травами, разноцветными приправами. Только и узнала среди этого многообразия красный и черный перец, лавровый лист и базилик. Хозяин лавки, незаметный маленький старичок, в отличие от прочих продавцов, не предлагал свой товар. Он священнодействовал, маленьким совком зачерпывал специи, сыпал в пакетики и клал на весы – будто золотых дел мастер тщательно взвешивал крупицы золота. Не бизнес, а любовь к привычному делу занимала этого человека на отлёте лет. Я хотела спросить, для чего предназначена та или иная травка, но не решилась нарушить сосредоточенность владельца приправ. Согнутая спина старика, медленные движения напомнили склонённую над плитой маму. Она тоже, как и этот человек, неторопливо, обстоятельно готовила обед. Самой ей всё равно было, что есть, доедать ли сухой чурек или остатки вчерашней мамалыги.
Потом привиделось: мы сидим за ужином – мама, я и Рути. Тишина, нам не обязательно разговаривать, молчание не тяготит. Удивительное чувство покоя, словно остановилось время. Трудно смириться с тем, что была мама, и нет её. Отец видится молодым – вот он идёт лёгкой, танцующей походкой. Вижу его и старым – жалким, растерянным. А Георгий Николаевич – первый учитель – представляется всё больше похожим на декабриста Пестеля, портрет которого я подолгу рассматривала в учебнике истории. Одинокий, ищущий человек. Все живы в моей памяти. И Ной не оставляет меня, мы сверяем наши мысли. Не могу вообразить никого другого на его месте. Мы дополняли друг друга – двое, как один человек. Он часто повторял: "Наше полагание существования Бога проистекает не из практического опыта, а из побуждения души". На мои сомнения в конкретной значимости тех или иных теоретических суждений отвечал: "Для выживания человечества нужно, чтобы какое-то количество людей занималось решением трудных, даже неразрешимых задач". Будь сейчас Ной в Израиле, конечно же доказывал бы необходимость широкого образования. Общечеловеческая культура, воспринимаемая через национальную, развивает и объединяет евреев в большей степени, нежели узко религиозная".
Седая, с продолговатым разрезом темных глаз, прямым носом, – такие лица нередко встречаются у не смешавшихся с местным населением Дагестана горских евреев, – Тайло с возрастом стала красивее. Появившаяся в лице значительность во многом определилась постоянными раздумьями, напряжением всех сил души. "С одной стороны – в нижнем мире происходит то, что, казалось бы, предрешено в верхнем, с другой – человек волен выбирать, – думала она и тут же одёргивала себя, – мне хорошо рассуждать, я старая, мне, в отличие от молодых, не нужно искать в Израиле работу; время провожу, что называется, в своё удовольствие. А молодые люди хотят активной жизни, подвигов. В Дагестане помогали друг другу по неписаному закону братства, здесь же каждый оказался сам по себе. Молодёжь растерялась от неожиданных трудностей; кто-то впадает в депрессию, кто-то в агрессию. Постепенно они сориентируются в своих возможностях, вычленят главное, и чем быстрее это произойдёт, тем меньше оснований страшиться – не слишком ли высокую цену придётся платить поколению, опьяневшему от кажущейся вседозволенности. С девочками проще. Там – робкие, целомудренные, трудолюбивые, здесь они берут реванш – хорошо учатся и нацелены на высшее образование. Мальчики ревниво относятся к самостоятельности девочек, к их желанию идти в армию; мальчики потерялись, не зная, каким образом выказать своё достоинство, бывшее превосходство. Им кажется, будто все только и делают, что покушаются на их горскую гордость. Нетерпеливы, всё хотят получить сразу и сейчас. Вот и мой недавний ученик Алхаз – юный джигит, готовый за малейшую обиду ввязаться в драку, бросил школу, ещё и в тюрьму угодил. Из-за пустяка. Подошёл к нему полицейский и говорит: "Ты свой мотоцикл не туда поставил". Алхаз выхватил кинжал, с которым, как всякий кавказец, не мог сразу расстаться; показалось – оскорбил его страж порядка. Может, и вправду в голосе полицейского не было почтения, только ведь это не повод, чтобы хвататься за кинжал. Нервозность – от невостребованности, от неуверенности в себе. Сейчас мальчика нужно вытаскивать из этого состояния. Ничего конкретного я ему не могу предложить, разве что понимание и соучастие".
– Я думал, в Израиле все братья, помогают друг другу, – говорил Алхаз пришедшей к нему в тюрьму бывшей учительнице.
– Так и будет, но не сейчас – потом, когда люди с разных концов земли начнут понимать друг друга. А сейчас не зацикливайся на случившемся. Скоро тебе идти в армию, вернёшься с хорошим ивритом, сдашь экзамены на аттестат зрелости или, как здесь говорят, багрут, выберешь профессию. Мы ведь сами делаем свою жизнь, и ты сам себе судья больше, чем окружающие. Не думай о плохом, возьми разбег на длинную дистанцию.
– Я стараюсь... Смотрю в окно и представляю, что по этой земле ходили наши предки. Говорят, отсюда всего лишь в двух часах ходьбы долина между холмов, где Иосиф искал своих братьев. Вот и я приехал в Израиль искать своих братьев. Не вижу проволоку за окном, вижу дорогу. Вот только не знаю, куда она заведет меня.
– Человек сам решает, куда ему идти и кем быть – злодеем или праведником; "Бог видит благочестивых, это Он призывает нас поступить по совести", – напомнила Тайло бытующие у горских евреев слова. Она говорила Алхазу о незначительности случившегося с ним эпизода, рассказывала историю выживания горских евреев, на фоне которой его сегодняшняя ситуация всего лишь недоразумение.
Иудеям Кавказа страна праотцев представлялась естественным продолжением нравственных ценностей, уклада, в котором они выросли. Оказалось всё сложней и для подростков, и для родителей. В новшествах израильской жизни старшему поколенью чудится чуть ли не угроза национальному существованию. Есть и такие, которые всерьёз думают вернуться обратно; всё трудней становится удержать девочек при себе; в Дербенте, если они выходили вечером из дому, то только в сопровождении взрослых.
Вновь прибывшую молодёжь из Дагестана не часто увидишь веселящейся на самом оживлённом перекрёстке улиц Яффо и Бен-Иегуда. Здесь, на небольшой площади, устраивают концерты, назначают свидания. Здесь же, на этом месте, был теракт, погибли танцующие и поющие подростки. Почему-то память возвращается к трагическим, а не весёлым событиям. На улицах Иерусалима Тайло непроизвольно вглядывается в лица идущих навстречу людей и, как всегда, мысленно пытается представить их нерешенные проблемы. Может это выработанная годами учительства привычка заметить растерявшегося, отчаявшегося и помочь ему. Или человек изначально приходит в мир с чувством вины за его неустройство. Не оставляло сознание ответственности и в отношении разумного управления государством. В России такого чувства не было, там считала себя посторонней. Казалось бы, куда как просто: выбрать в правители мудрецов, как это было в эпоху Судей. Значит, дело стало за мудрецами.
Тайло пытается представить, каким образом мудрые из мудрых разобрались бы в сегодняшней ситуации с арабами. С теми, кто называет себя палестинцами. "Самое простое – пойти на них войной, но мы же не дикари, не можем с легкостью убивать. Да и не все они враги, есть и миролюбивые, которым надоела война. На днях в автобусе арабка пыталась унять плач своего новорождённого ребёнка. Женщины, сидящие рядом, пытались ей помочь, и не хотелось думать, что из этого надрывающегося в крике невинного младенца вырастет террорист. Невольно возвращаешься к мысли о том, что не будь у живущих по соседству арабов поддержки Сирии и Ирана, всё стало бы тихо, мирно. Ситуация осложняется делением израильтян на тех, кто готов заплатить землёй за мир, и тех, кто понимает: уступки, компромиссы нас не спасут.
История повторяется. Две тысячи лет назад Сирия также угрожала существованию Израиля, тогда мы назывались Иудеей. Население держалось традиций, а верхушка общества ради благополучной, спокойной жизни склонялась к эллинизму: еврейские аристократы предпочитали греческие имена, для предметов роскоши употребляли греческие названия. Сейчас чем больше готовность наших, в основном высокооплачиваемых левых отдавать арабам землю, тем сильнее сплачиваются правые, готовые бороться за каждое поселение. Тогда, двадцать веков назад, знамя борьбы за свободу и независимость подняли Маккавеи. Им удалось убедить даже самых ярых приверженцев традиций в том, что воевать против врагов Израиля, позволено и в субботу. Казалось бы, гнев Божий отвратился от Иудеи, Маккавеи одерживали над превышающими силами врага одну победу за другой. Иерусалим был возвращён, евреи праздновали очищение Храма – то было чудо победы, праздник мужества. Но сирийцев поддерживали эллинизированные аристократические партии не только из экономических интересов, но и из-за ревности к предводителям восстания. По прошествии нескольких лет повстанцы были разбиты, вожди казнены. Поражению сильных способствовала неуверенность, зависть слабых.
"Может быть, левые надеются на возможность добрых отношений, если будут призывать врагов жить дружно; мы уйдём с наших исторических владений, которые сейчас называются территориями, и они будут вести себя соответственно, то есть прекратят теракты", – размышляла Тайло, стараясь понять, чем можно руководствоваться при ликвидации поселений. Она даже предполагала, что кто-то из правителей побратался с арабским лидером, и они на крови поклялись друг другу в верности делу мира. А залог верности – ещё одна уступка территории. Но тот или иной премьер – это всего лишь зависящий от обстоятельств смертный человек. Не вправе он отдавать выстраданную землю Израиля. Да и арабский лидер не вечен, при его преемнике может случиться, что у нас не будет ни мира, ни отданных территорий.
Сторонники уступок правильность своей политики могут подтвердить исходом Иудейских войн, которые привели к гибели защитников Иерусалима, разрушению Храма, рассеянию. Положим, не было бы Иудейских войн. Их могло бы не быть и в случае, если бы народ последовал призыву Иешуа, он же Иисус: "Если тебя ударят по правой щеке – подставь левую". Правда, тот пророчествовал о близком конце света, и тогда сопротивление римлянам, и в самом деле, теряло смысл. Пророчество не сбылось. А евреи, прислушайся они к его проповеди, смирились бы с властью язычников, отменили бы свои обряды; и тогда не сохранили бы самого главного – веры. За веру погибли Маккавеи, пали последние защитники крепостей Массада и Бейтар, но они стали символом стойкости народа, героической борьбы. Духовное выживание в течение двух тысяч лет определило сегодняшнее существование страны".
Так думает Тайло, глядя из своего окна в потемневшее небо. Через минуту-другую выглянет ещё одна звезда – их станет три, что будет означать конец шаббата. Слева, как всегда в это время, высоко в небе мигают два огонька: то самолёт, который приземлится в аэропорту, когда тамошние работники отделят освящённый день от будней.
В синагоге, что напротив окна, поют. Скоро оттуда будут выходить накрытые талесами мужчины, и Тайло в который раз представит светлеющую в темноте дорогу, по которой когда-то шли к Храму. "Что жизнь человека по сравнению с сохранившимися камнями Иерусалима? Мелькнувшая тень. "И приложился он к народу своему" – говорится в Священном писании о еврее, который умирает в Израиле. И я буду иметь счастье приложиться к народу своему. Ради веры умирали вдоль дорог тысячи распятых на крестах воинов Бар-Кохбы. Вот и сохранившие свою веру евреи Дагестана не изменили традициям поколений, не смешались с мусульманами, чем обрекли себя на долгие мученья. Вера определила судьбу народа – выжили и сберегли право на свой разговор с Богом".
Сейчас Тайло знала смысл субботних и праздничных обрядов, которых держались старики Дагестана только потому, что так делали их предки. Однако в праздники и шабат уныло одной. Всегда работавшая женщина не научилась отдыхать. Опять же мало радости говорить самой себе "лехаим". Состояние просветления, когда зажигала свечи, сменялось чувством потерянности в огороженном пространстве комнаты. В голову лезли всякие страхи, ужасы. Как там Рути, где она, с кем? Не идёт ли ночью по пустынной улице? Воображение рисовало одну картину страшней другой, и Тайло взывала к Богу о помощи, она молила защитить и благословить её ребёнка. На какое-то время помогало, потом снова казалось: если сейчас не услышит голоса дочки, наступит паралич сердца. "Отчего мне так страшно?" – спрашивала она себя. Сама же и отвечала: "Наверное, оттого, что всё время теряла – потеряла Гочи, Ноя. Вот и Рути сама отвела к Фатиме. Не случись этого, она бы уехала со мной. Но тогда не было другого выхода, неизвестно, чем бы закончилась депрессия ставшей ко всему безучастной девочки. Бывало, я ночью вставала и прислушивалась – дышит ли? Господи! Мне ничего не надо, только помилуй, спаси от всяких напастей мою девочку! В чем моя вина? За что Ты наказываешь меня одиночеством? Неужели, за то, что хотела учиться!? Пошла за своей детской мечтой найти формулу справедливости. Если бы люди знали её, всем стало бы хорошо.
Помню, Ной рассказывал похожий на правду анекдот про Альберта Эйнштейна. Когда тот после смерти вознесся на небеса, Творец Вселенной, в знак уважения к ученому, предложил выполнить любую его просьбу. Эйнштейн попросил Всемогущего продемонстрировать формулу Мироздания. И в воздухе поплыли вереницы знаков, цифр… "Господи! – воскликнул через какое-то время ученый, – да у Тебя вон там ошибка!" – "Я знаю", – в смущении ответил Бог". Я тогда сказала Ною, что ошибка заключается в вычислениях, касающихся справедливости. Впрочем, может, то была преднамеренная ошибка: если бы люди знали, что за чем следует, у них не было бы свободы выбора. Но выбора и так нет, возможности ограничены, каждый поступает только так, как может".
Тайло в нетерпении выискивает на вечернем небе три звезды, означающие конец шабата, то есть возможность засесть за свою рукопись. Работа спасала, отвлекая от мрачных мыслей. Только бы скоротать ночь, а утром можно отправиться в Национальную библиотеку, где нашла дореволюционный журнал "Восход". Там в статьях Йосефа Йегуды Чёрного узнала рассказы прадедушки Гочи. Страстный путешественник, этнограф, историк Йосеф Йегуда Чёрный писал о религиозном и семейном быте горских евреев. Его собственные наблюдения были криком к царскому правительству о помощи скорчившимся в землянках людям. За право жить в ямах, кроме податей, полагалась и трудовая повинность. Кто с ней не справился или недостаточно низко поклонился беку, подвергался истязаниям. Жаловаться правительству боялись, чтобы не навлечь на себя ещё большей беды. "Драматизм положения, – писал Йосеф Чёрный, – вдруг встал передо мной с какой-то мучительной ясностью. Среди пустынных скал дикого Кавказа, среди девственной суровой природы, где живут дикие звери и не менее дикие хищные люди, в общем-то, и не люди, я нахожусь в обществе моих несчастных братьев, забытых Богом и людьми, переживших столько испытаний, заброшенных сюда исторической бурей, убитых горем, униженных рабством, жестокостью, предоставленных дикому произволу кровожадных варваров…". Автор этих взывающих к милосердию слов приехал в Дербент с соизволения его высочества великого князя, наместника Кавказского, почему и не был растерзан баями. Крепостное право казалось Йосефу Чёрному раем по сравнению с условиями жизни горских евреев.
Тайло невольно вживалась в состояние умирающего в землянке от голода и холода человека. Почему-то виделась старая женщина, она жалеет отломить себе краешек кукурузной лепешки – всё равно не сегодня-завтра уйдёт в лучший мир, зачем же зря переводить хлеб, пусть лучше детям останется. Или то был мужчина, в старости и нищете нет пола. Человек умирает, будучи не в силах преодолеть усталость: сначала тяжело, потом станет легко, совсем легко – он теряет сознание, и ангел уносит его душу. Лежащие рядом в тесной землянке родные утром почувствуют холод закоченевшего тела. Йосеф Черный писал о мистическом страхе мусульман перед иудеями. В тысяча восемьсот тридцать четвёртом году один из участников погрома еврейского селения выкрал из синагоги написанное на пергаменте Пятикнижие Моисея. Разрезал его на куски, сделал из них себе башмаки, раздал другим, и чтобы ещё больше надсмеяться над иноверцами, погромщики топтали порванный Свиток в грязи и хулили Бога евреев. На следующий день зачинщик святотатства умер в страшных мученьях. Остальные, испугавшись, собрали куски пергамента Пятикнижия и отнесли в синагогу.
Найденные в энциклопедии Брокгауза сведения об авторе оставленных записок – Йосефе Йегуде Чёрном представлялись во плоти: молодой человек с прибыльной специальностью винокура вдруг без всяких средств уезжает в долгое путешествие по Закавказью. Чего искала его беспокойная, жаждущая справедливости душа в стране гор? Почему не сиделось на месте? Его призыв о помощи забитым, живущим в землянках единоверцам был услышан. Рукописи Чёрного опубликовали, людям помогли. Только сам он не успел увидеть результатов своего труда. Вернувшись в свою Одессу, умер от чахотки горла. Умер одиноким в семье брата. Почему так несправедлива была судьба к этому человеку?
За окном уже светало, а Тайло всё думала, проживала жизнь Йосефа Черного – путешественника, у которого не было ни своего дома, ни семьи: "Почему мятущийся, выламывающийся из привычного быта человек расплачивается одиночеством? Справедливость – не абстрактное понятие, это сознание ответственности за беды других, за что и поплатился Йосеф Йегуда Черный своей судьбой".
Привиделось расположенное высоко в горах, примерно в ста километрах от Дербента, селение Укуз. "Огнём и мечом заставили тамошних жителей принять ислам. Живущие сейчас в селении таты-мусульмане когда-то были иудеями, в их разговорной речи много слов из иврита. Только сейчас уже ничего не изменишь. Пусть хотя бы камни с ивритскими буквами на заброшенном кладбище возвращают память людей к своим истокам. А что объединяет людей, если не память? Память и надежда. Собравшись на своей земле, мы не только перестанем быть изгоями, но и восстановим свой дом, в котором, как и раньше, мудрец станет цениться выше богача, а праведник – выше вельможи".
Идея грядущего золотого века не могла заглушить беспокойства и тоски по Рути. Страшно было думать о том, что девочка унаследовала от отца, которого она ни разу не видела, раздражительность, нетерпимость. В разговоре с ней казалось, будто ходишь по минному полю, невозможно предвидеть, что вызовет негодование, отчего бросит трубку. Страшила мысль и о том, не перейдёт ли на Рути невезучесть её двух мам. Не отличающаяся красотой, самолюбивая, избалованная, она ждала внимания самых интересных мальчиков. Здесь Тайло понимала свою дочку, тоже ведь выбрала не кого-нибудь, а Гочи. И с учёбой нужно определиться, лечение травами на уровне знахарства – несерьёзная затея. Да она и сама это понимает, но не может собраться с силами поступить в институт. Нерешительность приводит к бездействию, а нереализованное честолюбие вгоняет в депрессию.
Однажды, когда Тайло услыхала в голосе дочки плач, она тут же собрала чемодан и полетела в Дербент. Рути растерялась, увидев её, Фатима обрадовалась.
– Я подумала, может быть, смогу чем-нибудь помочь, – объясняла своё появление Тайло.
– Чем, например? – спросила с вызовом Рути.
– Не знаю…
– Вот и я не знаю. Мне одной лучше – никто не капает на мозги: делай то, делай это. Мне с Фатимой лучше, она не пристаёт, не воспитывает. И не повторяет изо дня в день: "Учись! Учись!" Ты стала счастливее оттого, что училась?!
– Стала. Образованный человек не замыкается на себе, он причастен культуре стран, поколений...
– Не надо мне твоего вычитанного из книг счастья.
Нет, не получался разговор с дочкой. Если бы могла устроить её жизнь, навсегда вернувшись в Дербент – вернулась бы. А будучи в Израиле, отказалась бы даже от нестерпимого желания услышать её голос по телефону. Только бы знать, что у Рути всё хорошо. А та понимала, что не соответствует упованиям матери, и это её раздражало. Тайло не знала, как лучше: соглашаться ли во всём с дочкой, потакать ей, и тогда она не будет раздражаться, кричать. Или наоборот, ещё и ещё раз пробовать пробудить в ней сознание необходимости учиться, серьёзно работать.
– Как будто, если я окончу институт, что-нибудь изменится, – оправдывала Рути своё бездействие.
– Изменится, у тебя появится интерес…
– Интерес к чему?
– Положим, к фитотерапии, которая и есть лечение травами, но со знанием медицины, то есть на серьёзном уровне.
– Ты про это ничего не понимаешь, что с тобой говорить. Наука здесь ни при чём.
Улетала Тайло в отчаянии. Готова была остаться, но дочка об этом даже слышать не хотела, заявив, что не хочет терять независимость. Большие претензии Рути при нелюбви к будничному труду ничем хорошим не могли кончиться. Подобное состояние, когда казалось – всё висит на волоске, и ты не можешь ничего изменить, было три года назад; тогда поняла – не справиться ей с депрессией девочки – и отправилась искать Фатиму. Теперь также не было сил преодолеть страх за своего ребенка. Смерть казалась освобождением от безнадёжности. Снова привиделось место на земле, где вконец обессиленный человек кладёт на пень свою усталую голову, и на его шею опускается тяжёлый топор. Всего лишь миг, и нет мучений. "К тому палачу-избавителю стоит длинная, опоясывающая земной шар очередь из таких же беспомощных, как я. Туда люди ползут на последнем дыхании. Всё время боюсь за Рути, ей плохо, но мне ещё хуже. Я боялась, что она… Нет, это я хотела покончить с собой. Надо убрать меня, я раздражаю её своими страхами и приношу больше зла, чем добра. Сколько раз говорила себе: не приставай к девочке, она уже взрослая. Но снова и снова стараюсь найти для неё дорогу, чтобы она была счастлива. Но я и сама не знаю этой дороги, иначе не оказалась бы банкротом. В окне самолёта – фантастически красивое радужное небо. А где человек с его страданиями в этом совершенном космосе?"
Как только Тайло переступила порог своей комнаты, раздался телефонный звонок. То была Рути, она всегда чувствовала отчаянье матери, вот и сейчас старалась уверить её, что ничего непоправимого не случилось – в этом же году поедет в Махачкалу поступать в медицинский институт.
– Ведь ты не успокоишься, пока я не пойду учиться и не получу диплом.
– Не успокоюсь. И дело не в дипломе, тебе легче будет ориентироваться в твоём увлечении. Всё нужно делать на профессиональном уровне. Встретишь людей, для которых фитотерапия – последнее слово медицины.
Спокойный голос дочки воскресил душу – всё обойдётся. "Бог даст, выйдет замуж, а и не выйдет – тоже не беда, только бы ребёночек был. Фатима работает, а я свободна. Я бы маленького с радостью сюда взяла, нянчила бы, пока есть силы; у меня их надолго хватит – по задачам Бог даёт силы. А потом и Рути приедет, во всяком случае, у неё будет возможность выбирать". Снова шаги стали легкими, а "небо в алмазах". – "Господи! Спасибо Тебе за минуты надежды, покоя", – благодарила Тайло Создателя.
На следующий день она поехала в тюрьму к своему бывшему ученику Алхазу. Люди вокруг представлялись близкими, чуть ли не родными. Вот входят в автобус усталые солдаты с тяжелой поклажей, автоматами. Один из них – беленький, худенький, совсем мальчик, наверное, из России, сел рядом и тут же уснул. Сполз тяжелый автомат с плеча и болтается внизу, придавив ногу. Тайло боится шевельнуться; голова мальчика лежит у неё на плече; боится разбудить. Через несколько остановок встрепенулся – улыбается соседке широкой доверчивой улыбкой, которая означает: привалился не к чужой тётке. Мальчик выходит на своей остановке, оглядывается на окно автобуса, машет Тайло. А та просит Всесильного, чтобы Он вернул мальчиков-солдат своим мамам.
Процедура оформления свиданья с заключённым проста: приходишь в назначенный час, предъявляешь удостоверение личности, и спустя несколько минут в комнату входит безучастный ко всему Алхаз. Сутулившийся узкоплечий юноша с тонким напряжённым лицом, про таких говорят шизотимики – нервный, легко возбудимый тип. Его судили за ношение холодного оружия и сопротивление стражу порядка. "Но я же его не тронул", – оправдывался на суде Алхаз. "Если бы тронул, судили бы по другой статье", – ответил ему прокурор.
Всё у Алхаза сошлось одно к одному. После долгих поисков работы устроился он через какую-то фирму монтажником-строителем, чуть ли не половину зарплаты должен был отдавать посреднику. Спустя полгода сманил его хозяин небольшого магазина работать у него грузчиком, денег обещал в два раза больше. Месяц прошёл, другой, не платит хозяин денег. Алхаз заикнулся о зарплате, а тот говорит: "Подожди, у меня сейчас нет". Спустя неделю-другую тот же ответ. На категорическое требование денег швырнул грузчику в лицо несколько сотен шекелей – во много раз меньше того, что обещал. "Не нравится, – кричал хозяин, – убирайся отсюда! Можешь подать на меня в суд".
– У меня прямо руки чесались размазать его по стенке, – рассказывал бедолага. – Сдержался. Оказалось, что и в суд я не могу пойти, ведь у меня не было письменного договора. Хотел вернуться в Дербент, но все родные здесь, и дом там продан. Всё равно бы вернулся, не случись эта история с полицейским. Зачем я здесь? Я знаю – в первые годы, как образовался Израиль, люди гибли в войне с арабами и все равно ехали сюда, потому что понимали свою необходимость. А я зачем? Кому я здесь нужен? Ещё девушка, с которой дружил, ушла. Может, она и не виновата, так получилось. Сначала радовалась нашим встречам, но это только сначала, потом шли рядом и молчали, оказалось, не о чём нам говорить. Я ждал свидания и такое, бывало, напридумываю, а встретимся – чувствую себя дурак дураком. Так бывает?
– Конечно, необязательно всё время разговаривать, когда люди понимают друг друга, им и молчать хорошо вместе.
– Я чувствовал, ей скучно со мной, вроде, как пустота между нами, хотел сказать что-нибудь интересное, но не знал, что. Она тоже молчала. Потом услыхал, как бойко тараторила с моим приятелем о пустяках. Он мастер говорить. Мы втроём шли по дороге, то ли я ушёл от них вперёд, то ли они специально отстали. Так случилось…, я не виню их.
– Ты ещё встретишь свою девушку. А самый главный разговор мы ведём с Богом и с самим собой.
– Значит, нет любви?
– Есть. И не только в сказках. Я недавно встретила очень нарядную пожилую женщину, не удержалась и сказала: "Какая вы красивая!" Она обрадовалась моему вниманию и рассказала, что именно в этот день сорок лет назад муж сделал ей предложение. Муж давно умер, но чувство праздника осталось до сих пор.
– Такое редко случается, – усмехнулся Алхаз. – Во всяком случае, сейчас. Раньше, наверное, было.
Тайло понимала, ─ при неустроенности души появляется зависимость от даже случайного партнёра, воображаемая любовь становится светом в окошке. Обман работодателя, расставание с девушкой, тюрьма – всё это вызвало в не защищённом от напастей мальчике чувство обречённости. Будущее представлялось Алхазу повторением случившихся бед. Он склонен был искать обиду, пренебрежение, и нашёл их в замечании полицейского. Ему нужно самоутвердиться.
Ной, занимавшийся формированием личности, говорил, что человек может изменить себя и свою жизнь путём осмысления действительности и себя в ней, это определит поведение, самооценку. Ной часто ссылался на своего любимого Спинозу, который писал, что свобода заключается в понимании самого себя; добродетель и счастье – в использовании своих сил, а порок – в неумении реализовать свои возможности; зло – от бессилия.
– Бывают события, которые нужно переждать. Абстрагируйся от случившегося.
– Но почему, почему именно со мной такое случается? – голосом обреченного человека спросил Алхаз.
– Ты в порядке. Случается со всеми, я тебе принесу книгу моей знакомой, она сидела в сталинских лагерях; там от людей ничего не зависело, разве что достойно умереть. А ты вырулишь на свою дорогу, у тебя есть выбор.
– Какой выбор?! Ну, буду я вкалывать где-нибудь за копейки, начальнику не перечить, угождать. И так всю жизнь.
– Не помню, кажется, Форд устроился подметальщиком на завод, где делали машины, а потом стал владельцем того завода. Он сам добился всего. Наверное, очень любил машины, и не случайно пошёл работать именно на тот завод. А тебе чем хотелось бы заниматься?
– Не знаю, не решил. Я лошадей люблю.
– Можешь устроиться в кибуце или в иерусалимской школе верховой езды конюхом, наездником, а там станешь инструктором или сориентируешься на ветеринарный факультет – будешь не только ездить на лошадях, но и лечить их.
– И встречу девушку, которая полюбит лошадей и меня.
– Ну, да.
– Как вы хорошо говорите, но я плохо учился в школе…
– Это неважно, есть гении обучаемости, с хорошей памятью, с усидчивостью; они кончают школу с медалью, но ничего серьёзного не создают. А есть те, что в школе учатся кое-как. Зато потом, если найдут свою золотую жилу, то есть интерес к чему-нибудь, сразу приобретают уверенность. Нехватка денег покажется пустяком, когда начнёшь прислушиваться к самому главному в себе. Научишься оставаться наедине с собой, станешь сильней, менее зависимым от обстоятельств. Не нужно думать о сиюминутном успехе. Тебе сейчас идти в армию, когда вернёшься, я буду заниматься с тобой; ещё не забыла математику. Поступишь в университет.
– Вы думаете, у меня получится? – задумался мальчик.
– Конечно. Человек создаёт себя в процессе непрерывного усилия. Что-то зависит от обстоятельств, но многое и от наших стараний. Жизнь – это работа. Случается, человек начинается с блестящих возможностей, потом расслабляется, теряет себя и деградирует. А бывает наоборот. Сказано в Писании: "И сотворил Бог человека и оставил в руке произволения его…" Наши возможности, жизненный опыт идут не через подчинение внешней силе, а через поиск себя, реализацию своих способностей.
После свиданья с Алхазом бывшую учительницу не оставляли сомнения: а не поставила ли она перед мальчиком невыполнимой цели? "Это в старости легче справиться с уединённостью: нет энергии молодости, когда непременно нужно куда-то спешить, и боишься опоздать. Страсть и нетерпение Софико были присущи и мне. Пожилому же человеку только и хватает сил на то, чтобы снова и снова перебирать прошлое. Положим, после армии Алхаз будет свободно владеть ивритом, но попасть на ветеринарный факультет, наверное, не просто. Нереальная цель может привести к нервному срыву – с одной стороны, с другой – легче жить со сверхзадачей. Ох, как страшно мне было первый раз ехать одной в Москву, так, наверное, парашютисту страшно первый раз прыгнуть с самолёта, но выбора не было. В высоких целях, по словам Ноя, заключается не только известная доля безумства, но и таланта: так происходит развитие, становление человека. Да, но невыполнимая цель может привести к неврозу. Неудачи могут парализовать активность, но они же будоражат мысль. Кто знает, не обмани Алхаза работодатель и не уйди от него девушка, стал ли бы он искать себя в наполненных работой и любовью буднях. Конечно, обращение к своему "я" не страхует от бед, но не столь унизительным представился бы мальчику обман, измена и тюрьма. Мы не выбираем смысла нашего существования, а, скорее, обнаруживаем его. Алхаз сам скорректирует свои планы. Его устремлённость вызовет внутреннее напряжение, явится предпосылкой психического здоровья.
Бывало, вечером, когда не могла сопротивляться усталости и сознанию бессилия, я отменяла поставленную цель. Тогда утром просыпалась потерянная, ко всему безучастная. И чтобы избавиться от ощущения пустоты, снова бралась за, казалось бы, непосильное дело. Менялось и настроение: чувство конца сменялось представлением дороги. Человек рассчитан на преодоление. Кто знает, не есть ли бессмертие души также причастностью некоему делу, призванию? Неважно, до какого предела удастся дойти, главное – быть в пути. Эту истину взрослые люди уяснили для себя, а подростки всё начинают с начала. А насчёт любви Алхаз прав, это счастье не зависит от нас. Но если человек – одинокое дерево, тогда получается, что можно быть терпимым к тому, кто рядом. Дербентская сваха говорила: "В ближнем нужно искать достоинства, а не недостатки". Сваха права, но только увядает душа, если уныло с тем, кто рядом. Тогда человеку лучше быть одному".
Тайло не спеша идёт по улице, невдалеке от автобусной остановки замечает высокую раскидистую сосну, останавливается перед слаженной гармонией образующих шатёр веток и ровного прямого ствола. Через несколько шагов – снова сосна и совсем рядом – роскошная пальма. "Как они уживаются на таком близком расстоянии?" Мимо пробежал мальчик с ранцем, должно быть, из школы. И давно не молодая женщина тут же отождествилась с ним, с его неудержимым бегом и нежеланием засесть дома за уроки. Девочка из песочницы на детской площадке смотрит во все глаза, на улыбку Тайло отвечает радостным смехом. "Бай!" – кричит она вслед уходящей женщине. "Бай!" – оглядывается та. Так просто вызвать ответное чувство ребенка, ещё не озабоченного проблемами взрослых.
Уже смеркалось, когда Тайло вошла в свою похожую на пещеру комнату, две стены которой были вырублены в горе. "Хорошо бы сейчас кто-нибудь развёл огонь и накормил ужином", – с тоской подумала усталая женщина. Она видела себя со стороны: обессиленная годами, седая, так и не решившая поставленной перед собой задачи. С возрастом труднее справляться с жизнью: трудно нагнуться, носить тяжести. Всё меньше остаётся сил и всё больше нужно приспособлений: очки, зубы, скоро потребуется и слуховой аппарат. Всё отчётливей проступает сознание конца – то самое время, когда человек спешит разбросать собранные камни. "У меня это книги, найти бы того, кому они понадобятся". Представился старик-отшельник, у него тоже болят ноги, спина; вечером в темноте он ложится на своё каменное ложе и не знает, проснется ли завтра. Утренний свет, что пробьётся в пещеру, примет как подарок и поблагодарит Создателя за ещё один отпущенный ему день.
Вдруг звонок! Тайло в нетерпении хватает трубку. Это Рути! И сказала-то дочка всего лишь несколько слов, но голос спокойный. Значит, всё хорошо! Уныния и тоски как не бывало. Всё наполнилось ликованием, смыслом. Вспомнилась прочитанная в какой-то книге строка: "Когда душа оказывается в ином мире, выясняется – ценным представляется лишь то, что она любила кого-нибудь и стремилась к знанию".
После звонка Рути стало покойно, хорошо. В дремотном сознании привиделся огонь – это зарево или пламя печи, и мама готовит блинчики, те самые, которые любит Рути. Потом всплыла девичья любовь к Гочи, стеснение в груди, когда высматривала его на перекрёстке по дороге в школу. До сих пор жива память его присутствия на последней парте и ожидания завтрашнего дня, когда отправлялась после уроков домой. В ожидании проходит вечер, ночь… и вся жизнь.
"Вот он рядом, и время остановилось; то ли явь, то ли сон – беспамятное ощущение счастья. Мы куда-то идём, всё равно куда, главное – вместе. Потом оказываемся в каком-то бараке за длинным дощатым столом, уставленным использованной одноразовой посудой. Мне бы убрать грязные пластмассовые тарелки, но боюсь, если отойду – Гочи исчезнет. Во сне он почему-то ярко-рыжий, никогда не был таким, светло-коричневая рубашка ему очень идёт. Глаза ласковые, любящие. Мы едим тушёную капусту – всегдашний гарнир студенческой столовой. Люди, что были за соседними столами, исчезли, и мы остались одни в огромной комнате барака. Я ищу ножницы, нужно скроить из узкого обрезка ткани распашонку для нашего будущего младенца. Гочи нагибается и поднимает с полу ржавые ножницы своей жены. Я молчу, неважно, чьи это ножницы. Главное – он рядом; умиротворенный, домашний. "Ты останешься со мной?" – спрашивает Гочи. Странный вопрос, разве может быть иначе. "А я уйду…", – продолжает он.
Не могу пережить ужаса его исчезновения, хоть и знаю – всё происходит во сне, во сне же понимаю: он ушёл навсегда. Потом привиделось, будто стою морозной вьюжной ночью у дома Гочи в Москве и стараюсь высмотреть в окне хотя бы его тень. В окне маячит другой человек – непомерно большой, с круглой каменной головой, он открывает форточку и кричит: "Ты что тут рыщешь?! А ну, пошла вон!"
Тайло открывает глаза: в начинающем зеленеть небе – звёзды, круглая белая луна. "…Может быть, когда-то на этом месте смотрел на исчезающие звезды тоже ужаленный любовью человек. Силы постепенно покидали его, и он уходил в спасительное небытие. А звёзды всё те же – у них вечность". В минуты, когда светает, карканье ворон особенно неистово, потом защебечут птицы. Утренний туман, – это даже не туман – дымка делает всё одинаково призрачным, невесомым. Дымку сменяет ясная голубизна небес.
Сон, в котором воскресла несбывшаяся любовь, вернул давнишнюю горечь утраты. "Ну почему, почему всё обратилось в беду одиночества? Почему ушёл Гочи, умер Ной, почему осталась в Дербенте Рути? За что мне такое? Почему случилось то, чего больше всего боялась – одиночество? Господи! Не забирай у меня дочку – "единственную овечку бедняка". Я знаю, человеку дана свобода выбора, только ведь не мы выбираем свою судьбу, судьба выбирает нас. В Твоих возможностях дать Рути человеческое счастье. У неё будут дети, и я уйду, примирённая со всем случившимся. Фатима тоже не останется одна, приедет. Жители села, откуда она родом, были евреями, их насильно заставили принять ислам. С тех пор прошло более ста лет, сейчас можно вернуться в иудаизм с помощью гиюра. Недавно в Талмуде прочла, что явился Санхерив, царь ассирийский, и перемешал все народы. Со временем отделённая часть вернётся к целому. Сказано там: "И возвращу из плена народ мой Израиль, и укореню Я их на земле, и не будут они больше вырваны из земли своей, которую Я дал им".
Последнее время Тайло не покидали впечатления недавно увиденного поселения Бэйт-Эль, что в сорока минутах езды от Иерусалима. "Место у нас особое, Богом избранное", – говорил Тувье, дальний родственник Софико, телефон которого она прислала из Канады. Невысокого роста коренастый человек лет пятидесяти с радостью взял на себя роль гида. Трудно было не согласиться с ним при виде захватывающей дух панорамы, что открывалась со смотровой площадки – весь Израиль просматривался, как на ладони.
– Хайфа, побережье Средиземного моря, гора Хермон на севере; на юге – Иерусалим и Гуш-Эцион, – перечислял Тувье. – Здесь, на этом месте, Бог сказал Яакову: "Всё, что ты видишь, это твоя страна!" Здесь же Авраам построил жертвенник Богу, который позвал его. На этой возвышенности, где мы стоим, когда-то стояли Авраам и Лот накануне разделения мест обитания. Именно отсюда открывается вид на Иорданскую долину. В эпоху судей в Бейт-Эль стекались за советом со всех концов Земли Израиля, здесь первый пророк Самуил творил суд, и здесь же была школа пророков.
─ Разве можно научить быть пророком? – усомнилась Тайло.
─ Каждый пророк – всего лишь человек со своей судьбой и характером, – отозвался экскурсовод. Общее у них: праведная жизнь и активный интеллект, иначе – интуиция. Интуиция – дар небес, она же, в некоторой степени, может быть развита в процессе обучения. Мы поговорим об этом.
Величественные холмы, звук шофара и теряющиеся в предвечернем мареве границы земли. Становились достоверными слова о том, что и в самом деле соберутся евреи на своей земле и настанет время добра и справедливости.
– Наше поселение возродилось четверть века назад, – рассказывал Тувье, когда они спустились с высот, то есть со смотровой площадки. – Невероятные трудности преодолевали первопроходцы, в основном люди, пережившие Холокост. Представляете: их здесь было всего пятнадцать семей. Жили в хлипких сарайчиках среди камней и арабов. Сейчас здесь тысяча семей из Франции, Англии, Америки, России, есть из Индии и Эфиопии. Половина населения – дети и подростки. Религиозная молодёжь учится, работает, служит в армии в боевых частях. Каждый готов взять на себя самую тяжёлую и опасную работу. Самые большие тяготы взяли на себя жители Бейт-Эля и в войнах Маккавеев более двух тысяч лет назад. То были войны за своё духовное наследие. Память тех лет, печать, свидетельствующая о нашем праве владения, осталась в Книге и в камнях.
Гостья вглядывалась в вырубленные в камне бассейн для омовения, давильню винограда с желобом, по которому стекал сок, погребальные пещеры. Всё свидетельствовало о древнем библейском городе Бэйт-Эле, бывшем святым местом ещё во времена праотцев. Представлялись люди, когда-то жившие здесь, их сложенные из камня дома с плоской крышей. Такие дома и в Дербенте есть.
– И ведь что интересно, – продолжал Тувье, – арабы построились на месте наших прошлых поселений, археологи находят тому множество свидетельств.
Тайло, глядя на оставленное в камнях завещание, чувствовала себя наследницей этих владений, словно вернулась душа на место своё.
– А как вы здесь устраиваетесь с работой? – спросила гостья у влюблённого в свой сказочный белокаменный городок экскурсовода.
– Вначале ездили на работу в Иерусалим через Рамаллу всего-то за пятнадцать минут, затем в связи с "мирным процессом Осло" арабским полицейским выдали автоматы, которые обратились против нас. Сейчас ездим в Тель-Авив в объезд, дорога в два раза длиннее. А шоссе, которое мы построили за свой счёт, левое правительство отдало арабам, чтобы те соединили свои деревни.
– И что же, все ездят на работу в Тель-Авив и Иерусалим?
– Учителя, врачи, медсёстры устроились здесь. У нас, слава Богу, много детей и много школ, разных учебных заведений, подготовительных курсов перед армией. Наша самая большая головная боль – арабы. Стреляют в нас, бросают камни, стоя рядом со своими построенными возле проволочного заграждения школами. А мы не можем ответить – боимся попасть в их ребёнка; всего лишь натянутая проволока отделяет нас от них.
– Удивительно, как схожа вражда с евреями у здешних арабов и мусульман Дагестана. Горцы-магометане в Дагестане называют горцев-евреев "кипты" – заблуждающиеся. Борьбу с иноверцами, как и израильские арабы, считают священной; убеждены, что каждый правоверный, павший в этом противостоянии, попадет в рай.
– Непонятно, каким образом можно нейтрализовать наших соседей, – сетует Тувье, – по-всякому пробовали. Не получается. Недалеко отсюда сделали промзону, казалось бы, и арабам хорошо – дали и им работу, но они воруют всё, что можно унести. С электростолбов снимают оборудование, с дорог – бордюр безопасности, и даже провода вытаскивают из-под земли. Воруют автомобили, ночью приехали из Рамаллы и вывезли целую линию производства. И никто ничего не может сделать. Наше правительство не хочет обострять отношения. Ещё и устраивают экологическую катастрофу, сточные воды спускают рядом с нашим поселением. Я знаю одно: несмотря ни на что, мы должны вцепиться, вгрызться в эту землю, удержать её, обжить. Я индивидуум – отдельный человек со своими интересами, и я же – часть моего народа.
– А как вы оказались в этом поселении? Софико писала, что вы уже сорок лет в стране.
– Это не моя заслуга. Отец привёз нас в Израиль, когда мне было двенадцать лет. У нас с Софико общий прадедушка, наши дедушки – братья. Её дедушка после революции оказался на Кавказе, а мой остался в местечке под Минском. Наша семья всегда хотела репатриироваться. Получилось только в семьдесят втором году. Сначала жили в Иерусалиме. Я женился и тоже купил квартиру в Иерусалиме. Потом, когда у меня было уже двое детей, я продал квартиру и построил дом здесь.
Сейчас в Бейт-Эле более тысячи семей, и у каждой своя история. Вот здесь, – указал Тувье на красивый двухэтажный коттедж, – живёт гроссмейстер из Аргентины. Шахматный конь, что нарисован на его воротах, означает бесплатную шахматную школу. А в этом скромном строении, что под смоковницей, семья рава из Англии. Удивительный человек: разговаривая с ним, невольно ощущаешь, что главная работа человека – его душа, которую он должен вернуть Создателю чистой. Сейчас мы идём мимо виллы бывшего винодела из Франции, он определяет ценность вин, не пробуя их, всего лишь по запаху. Его сын – главный эксперт винного завода на Голанах, и внук работает там же. Хорошо, если в семье есть преемственность профессии, дети пользуются накопленным опытом родителей. В конце улицы справа живёт женщина из Италии, зарабатывает тем, что делает ювелирные украшения, муж учится в ешиве. Публика здесь многодетная и небогатая. Зато обучение детей, разные кружки в школах дешевле, чем в больших городах. А вот и мои хоромы…
Тайло стояла перед прочно сработанным из больших камней домом. Разросшееся грушевое дерево, недавно посаженная виноградная лоза.
– Бассейн с рыбками, – указал хозяин на искусно сложенное каменное водохранилище с льющейся сверху из полу опрокинутого кувшина струёй воды. – Сын-спец-назовец построил, когда уходил в армию.
У Тайло сжалось сердце: вернулся бы мальчик домой, и не стал бы этот роскошный аквариум с золотыми рыбками памятью о нём.
Ступеньки на второй этаж и распахнутая дверь в ухоженный дом, где первое, что бросается в глаза – галерея портретов: младенцы, подростки, юноши, девушки в свадебных платьях и торжественные женихи.
– У меня восемь детей, – с гордостью говорит хозяин.
На противоположной стене – портреты седобородых предков.
– Мой дедушка, – поясняет он вглядывающейся в старинную фотографию гостье. – Погиб под Минском во время войны. Вся родня – в братских могилах. Отец случайно уцелел на фронте. Знал бы дедушка, что его внук и правнуки вернутся к Торе на Земле своей, легче было бы умирать.
– Не все евреи России выбрали Израиль, – вздохнув, продолжал Тувье, – у каждого свое.
– В Дагестане те, кто удачно сориентировался в сегодняшнем бизнесе, не сдвинулись с места. Решили, что им незачем ехать в ещё не отвоеванную страну...
– Вот и из Вавилонского пленения вернулись не все – богатые остались. То же случилось и при выходе из Египта – хорошо устроенные не покинули насиженных мест, чтобы присоединиться к соплеменникам, идущим навстречу испытаниям. Где теперь те евреи, что остались в Египте и Вавилоне?
– Растворились в местном населении, – отозвалась Тайло, – разглядывая фотографии детей. "Слава Богу, возрождается семья, – думала она, – этим детям не нужно будет продираться к своей культуре ценой судьбы".
Пришла с улицы девочка с ранцем, должно быть, вернулась из школы. Тонкие черты лица, рыжие вьющиеся волосы, быстрый внимательный взгляд. "Кто знает, если душа бессмертна, может быть, она вселилась в эту девочку и вновь оказалась на месте, с которого начиналась две тысячи лет назад", ─ подумала Тайло, глядя на дочку хозяина, чем-то неуловимым похожую на Софико.
– Нужно было давно вернуться, – словно услышал её мысли Тувье, – я знаю историю погромов, бесправия, презрения. Существует предание, будто ещё Наполеон призывал евреев собраться на своей земле. Своё обращение к иудеям он разослал всем раввинам диаспоры. Отказались. Ну да ведь мало у кого найдётся сил обживать давно разорённое место – каменную пустыню. Могли вернуться в двадцать втором году после декларации Бальфура. Не вернулись. Трудно трогаться с насиженного места. Только с Холокостом осознали необходимость своего государства. Дом нужно строить на своей земле. Вот и Жаботинский призывал еврейскую молодёжь переключиться с участия в русской революции на задачи своего народа. Сколько бы ты ни вкладывал сил в обустройство чужой страны, всё равно не избавишься от чувства неполноценности. Вождь сионистского движения предупреждал об угрозе нацизма, о надвигающейся Катастрофе. Предложил план эвакуации из Восточной Европы. Не поверили ему. Да и не один Жаботинский предвидел Катастрофу.
Пока хозяин страстно говорил о сбывшихся предсказаниях провидцев, из школы один за другим возвращались дети. Они вежливо здоровались и молча отправлялись на кухню разогревать себе обед.
– Какие у вас замечательные, самостоятельные дети! – восхитилась гостья.
– Да, не избалованы. Когда в семье много детей – легче. Один ребёнок, как правило, вырастает эгоистом.
Уже смеркалось, когда пришла хозяйка большого дома. Для матери восьмерых детей она выглядела неправдоподобно молодой. Тайло оставляла их дом с ощущением причастности к ранее незнакомой благополучной жизни. "У нас семья свята, – говорил Тувье, провожая гостью. – Молодые перед свадьбой встречаются несколько раз и, если друг другу понравятся, дальше строят отношения согласно воспитанию. Конечно, случаются разводы, но несравненно реже, чем у светских".
Тувье ведет гостью к автобусной остановке. В идущих навстречу поселенцах читается сдержанность, достоинство, решимость. А вот стоит девушка, явно не из религиозных: короткая юбка, обнажённые до плеч руки. "Значит, здесь и светские живут, и нет принуждения, как в районах, где обитают ортодоксы в чёрных шляпах. Здесь, среди религиозных в вязаных кипах, каждый выбирает свой образ жизни – у кого-то есть телевизионная антенна, у кого-то нет", – с удовлетворением заметила Тайло. Увидев проходящую мимо большую, едва сдерживающую нетерпение броситься за кошкой, собаку, протянула ей руку ладонью вверх. Собака подошла.
– Вы ей хотите что-нибудь дать? – спросил красивый рослый человек, хозяин овчарки.
– Рак ахава (только любовь), – отвечает Тайло, гладя собаку.
– В зе маспик (и этого достаточно), – улыбается молодой человек.
Из окна автобуса – расцвеченные предзакатным солнцем облака: то ли распластанный во всё небо павлиний хвост, то ли гигантское крыло жар-птицы накрыло белый городок, куда вернулись иудеи – наследники этих владений. И всё начинается сначала.
"Вот бы и Рути жила здесь. Последний раз, когда я говорила с ней по телефону, голос у неё был грустный, а я не решилась спросить, что случилось, боялась рассердить. И на другой день не позвонила. Чувствовала – не могу вдохнуть в неё силы, а оказаться в роли слабой, просящей внимания, как просят подаяние, тоже не могла. Если бы приехала, приобщилась бы к молодым людям Бейт-Эля, религиозный опыт которых не разнится с совестью и практической жизнью. А я бы работала здесь в школе, математика – интернациональная наука, специальной подготовки не требуется. Каким смыслом человек наполняет свою жизнь, тем и живет. Господи! – молила Тайло Всевышнего, – приведи дочку на нашу землю. Пусть сконцентрируются на небесах страдания когда-то насильно обращённых в ислам жителей аула, откуда родом Фатима. Сгусток страданий и надежд ушедших поколений станет силой, которая переместит мою девочку в Израиль, где ей и надлежит быть. А если не выпадет счастья выйти замуж, в Израиле можно родить ребёнка с помощью сохранённой спермы погибшего солдата. Господи! Я в ответе за одну девочку, а Ты – за всех. Без Твоей воли разве кто-нибудь придёт в этот мир?"
Смятение, чувство вины Тайло усилились от сознания увлеченности новым местом, людьми, будто забыла о дочке. Казалось, постоянные мысли о ней спасут, оградят её от бед. Всё чаще думалось о том, что любовь спасает не только Рути, но и её самое. "Мыслю – значит, существую, люблю – значит, живу. Если у Рути всё будет хорошо, тогда и мне нечего больше желать". Состояние лёгкости, новизны от общения с родственником Софико, близким по духу человеком, сменилось беспокойством, страхом. Страх всё обращает в ничто; это пустота, с которой невозможно жить. Сара умерла от страха за Ицхака. "Я бы тоже с радостью умерла за Рути, только бы она была счастлива, и не преследовало бы её одиночество, как меня и Фатиму.
"Поселенцы – лучшие люди страны, цвет нации, – вернулась к своим мыслям Тайло, – преодолели неустройство, страх арабского террора, до сих пор ни у кого нет уверенности, не расстреляют ли тебя в машине по дороге домой. На каких только работах и факультетах университета не встретишь их молодёжь. Не устраняясь от общей – мировой культуры, они развивают свою самобытность. К Богу идут от образования, активного служения, а не от смирения и невежества. Женщины тоже работают и учатся. Здесь следуют напутствию Виленского гаона, он говорил, что и девушкам нужно учиться и что для изучения богословских наук необходимо знание светских. Одно не противоречит другому; математические построения относятся к сфере идеального бытия. Будучи не только богословом, но и учёным, Виленский гаон сказал переводчику геометрии Эвклида на иврит: "Изъян в знании математики ведёт к десятикратному изъяну в знании Торы". Не по силам человеку познать истину, разве что искать её. "Цель творения человека есть мудрость, дабы познать Творца. Приобретай мудрость, приобретай разум", – сказано в притчах царя Соломона. Бесконечен путь познания – бесконечна жизнь…"
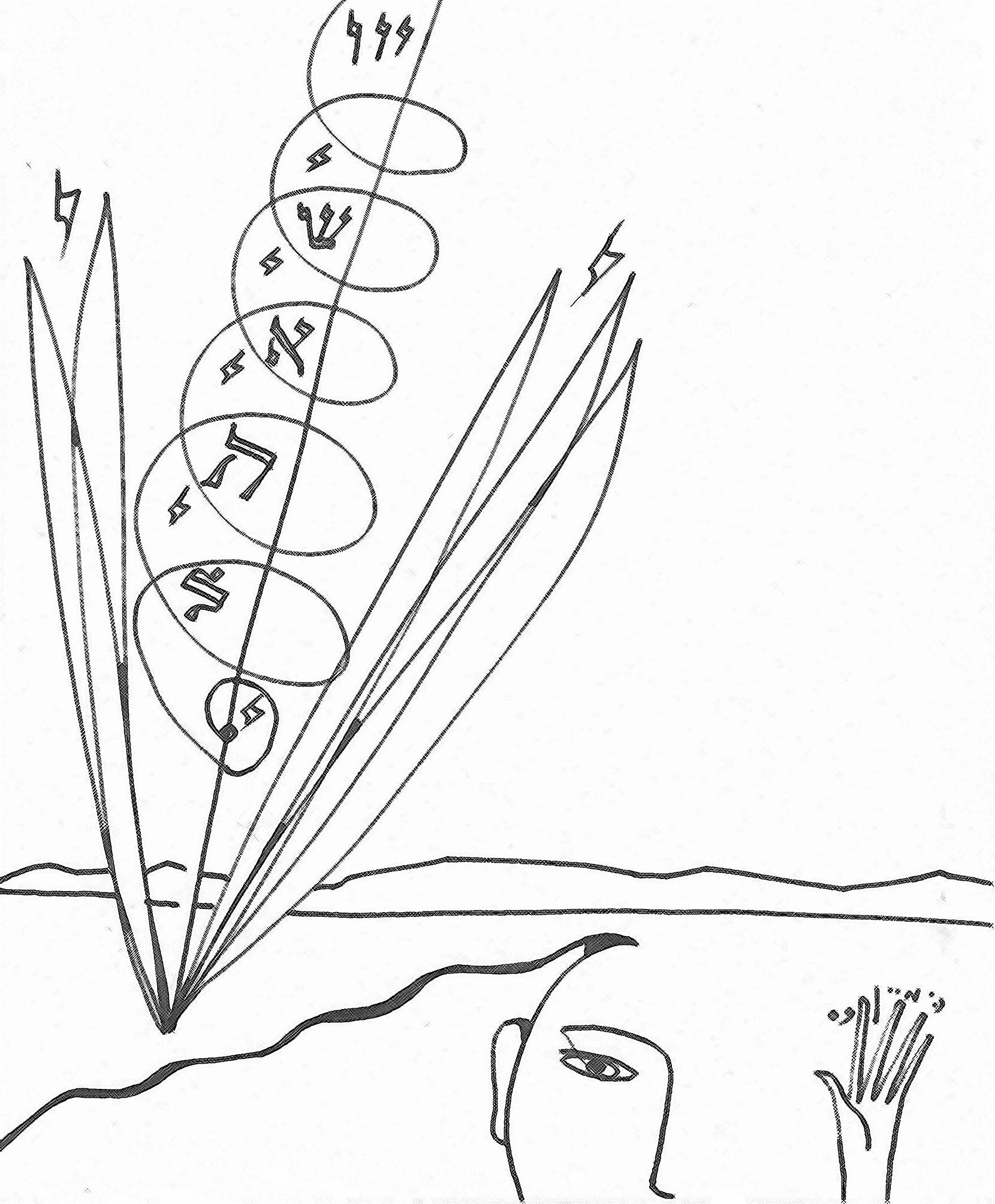
[1] Каспомат (ивр.) – автомат по снятию денег с банковского счета.