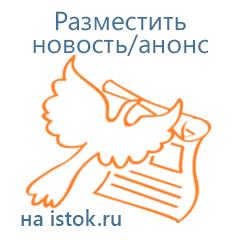5. От лагерного госпиталя до горящего судна
5. От лагерного госпиталя до горящего судна
Комендант лагеря спросил имя моей матери. Ничто в его лице не выдало его намерений. Я назвала, и он, повернувшись кругом, важно удалился в свою канцелярию. Оттуда тотчас же вышел капо с бумажкой в руке и отправился на поиски. Я помнила день, когда мы впервые прибыли в Штуттгоф из Ковенского гетто, как я бегала, пытаясь отыскать мою маму, как нашла ее в самый последний момент совершенно случайно, я, ее родная дочь. Как же капо, который мою маму и в глаза никогда не видел, разыщет ее среди одинаково наголо остриженных женщин, ожидающих свою очередь в крематорий?
Нога по-прежнему болела невыносимо, но так или иначе, сейчас я была отмыта от грязи и одета. Мягкая, теплая ночная рубашка казалась просто восхитительной после грязных лохмотьев, в которых я работала и спала месяц за месяцем в трудовом лагере. Два санитара несли меня на носилках, как принцессу, через толпу несчастных женщин. Где-то среди этих обреченных была моя мать. В прошлый раз, когда нас разлучили, она попыталась повеситься. Что она делает сейчас?
Ей повезло: она оказалась среди женщин из Ковно. Они, усевшись под голыми деревьями, прямо на земле, утешали ее. Они говорили ей: «Труди больше нет. Никто еще не возвращался из крематория. Ты должна утешаться хотя бы тем, что ей уже не придется больше страдать. Теперь ты просто обязана выжить. Хотя бы во имя ее памяти».
Именно в этот момент меня проносили мимо этого места. Все они смотрели на мои носилки, но мать меня не узнавала. Да и как могла узнать? В последний раз она видела меня еле живой, голой, грязной, в куче дистрофиков, приговоренных к немедленной смерти в пламени крематория; а теперь перед ней была чистенькая, раскинувшаяся на носилках девушка, одетая в красную ночную рубашку. Нет, она никак не могла быть ее дочерью, у нее просто не хватило воображения это представить. Значит, у нее начались галлюцинации. Ей же только что говорили, что из крематория не возвращаются. И все-таки это была я. Я закричала что было сил:
— Мама! Мама!
Санитары остановились. Мама услышала и закричала в ответ:
— Труди! Это ты? Ты живая?
Это было бесподобно. Случилось то, о чем она даже не могла мечтать: я вернулась к ней, я была жива. Она видела меня и не могла поверить. Я поспешила ей все объяснить:
— Жива, жива! Меня не убили!
Мама бросилась ко мне сквозь толпу. Я потянулась навстречу, и наши руки соединились. Наши руки и наши сердца. Капо, который должен был отыскать маму, ткнул в нее пальцем и приказал:
— Эту тоже в госпиталь!
И мама пошла за моими носилками.
На пороге госпиталя капо передал приказ коменданта лагеря: «Немедленно произвести операцию на ноге». Медперсонал госпиталя состоял из литовских евреев. Доктором, который занялся моей раной, была женщина по фамилии Каплан. В Ковно она считалась одним из лучших хирургов и знала моего дядю Якоба и родителей моей мамы. Она нас узнала.
Каплан осмотрела меня и сказала, что такую ногу лучше, конечно, ампутировать, но она попытается спасти ее. А я больше всего боялась умереть от заражения крови и потому не понимала, зачем нужно с этой ногой возиться?
Она сказала, что сделает все, что сможет, но лагерный госпиталь, это было одно название: здесь была полная антисанитария, он был переполнен больными, не хватало ни инструментов, ни медикаментов, и даже в этих условиях евреям и неевреям предлагалось разное лечение.
Анестезия мне не полагалась. Я получила какое-то средство, которое только слегка заглушало боль. Доктор Каплан резала меня практически по живому, и от каждого прикосновения скальпеля я извивалась от боли. Мы обе стискивали зубы — я, чтобы не кричать, а она от того, что причиняла мне нечеловеческие страдания. В конце концов ей удалось вычистить и продезинфицировать мою огромную рану со всей возможной тщательностью, и Каплан распорядилась отправить меня в палату.
На следующий день я пришла в себя и смогла разглядеть то, что меня окружало. Все пациенты госпиталя спали на нарах обычно по четверо, но нам повезло — на нас лежал отблеск благосклонности коменданта лагеря — нам позволили занимать целые нары только вдвоем.
Разумеется, ни о каких простынях не было и речи, были только старые замызганные солдатские одеяла. Нас кормили, давали все тот же жиденький супчик из картофельной кожуры и кусок скверного хлеба, но зато нам не надо было работать. В трудовом лагере у меня не было сил с кем-то общаться, кроме матери, а здесь я подружилась с некоторыми из пациентов.
Спустя несколько дней после того как нас с мамой поместили в госпиталь, к нам палату вошел комендант лагеря и строго приказал мне подняться:
— Марш в контору! — сказал он и добавил, обращаясь к маме: — И тебе нечего валяться! Возьми швабру и вымой пол в коридоре!
Когда мама выбралась из-под одеяла и он увидел, что на ней вместо одежды грязные лохмотья, то тут же отдал приказ капо подобрать маме и мне рабочую одежду.
— Я не смогу дойти в контору, — сказала я. Действительно, за все время в госпитале я вставала всего несколько раз, чтобы сходить в уборную. Даже с помощью матери это мне давалось с огромным трудом — каждый шаг отзывался невыносимой болью. И потом, я не понимала, зачем мне нужно вставать.
— Вон из постели! — закричал комендант.
Мне ничего не оставалось, как повиноваться, я встала. Он увидел, что у меня всего один деревянный башмак, приказал капо выдать мне еще и ботинки и удалился со свитой.
Очень скоро капо принес нам с матерью вполне приличные платья и пару поношенных армейских ботинок. Мы немедленно переоделись. Натягивать тяжелые, жесткие башмаки на мою поврежденную ногу было для меня сущей пыткой, но я понимала, что должна это сделать.
Комендант снова ворвался в палату и заорал мне:
— Почему ты еще не в конторе?
— Я не могу идти…
— Беги бегом!
Против этого возразить было нечего. Я похромала в контору госпиталя так быстро, как могла, держась за стенку. Комендант шел следом за мной. Он усадил меня за стол и вручил список фамилий:
— Перепиши это. Если кто-нибудь спросит, что ты тут делаешь, отвечай: «Конторская работа».
В списке были имена умерших в этот день. Он был бесконечным. Сами умершие были сложены под окном в гигантский штабель, среди трупов я видела своих новых друзей, с которыми познакомилась здесь, в лагере.
Вскоре я поняла, почему комендант лагеря выгнал нас с мамой из палаты и заставил работать. Делегация высокопоставленных офицеров СС прибыла в Штуттгоф с инспекцией. В считанные минуты офицеры оказались в госпитале; глаза их не предвещали ничего хорошего. О них говорили, как о самых свирепых убийцах. Они были одеты в безупречные мундиры, пестревшие боевыми нашивками и медалями. На поясе у каждого зловеще висел кинжал, а в руках была офицерская трость. Черные кожаные ремни и высокие сапоги сверкали.
В госпитале для своего удовольствия эти господа офицеры провели молниеносную селекцию. Они заставляли больных женщин раздеваться и обнаженными прохаживаться перед ними, подобно моделям на подиуме дома модной одежды. Они внимательно осматривали их, отпуская мерзкие шуточки и решая, которая из них еще сгодится для работы или сексуальных забав. Им нравилось видеть женскую униженность. Всех, кто на их вкус оказывался слишком худенькой или хворенькой, отбраковывали: «В крематорий»-цедили они сквозь зубы.
Моя мать отскребала пол в то время, пока офицеры СС забавлялись в палатах, и ее сердце обливалось кровью: после этой селекции многим из них пришлось отправиться прямо в газовые камеры.
Они видели мою маму в коридоре с ведром и шваброй, отмывавшую пол так, как если бы это было ее повседневной работой (а у нее было достаточно сноровки, приобретенной в Ковенском военном госпитале), и не обратили на нее никакого внимания. Так же они отнеслись и ко мне, конторской мыши. Я не могла сама видеть того, что происходило в палатах; мне об этом рассказали позднее.
Когда эсэсовцы ушли, нам приказали вернуться в палату и отобрали рабочую одежду.
По лагерным правилам, в госпитале нельзя было находиться более недели. Тех, кто поправлялся за это время, отправляли назад, в трудовые лагеря, а остальных — в газовую камеру. По инструкции немцы обязаны были строго за этим следить и регулярно прореживать ряды больных женщин, но комендант сказал, что мы можем не волноваться, он всегда сумеет замаскировать нас под рабочих.
Одной операции на моей ноге оказалось недостаточно. Понадобилось снова вскрывать рану, чтобы выпустить гной. Сейчас я не понимаю, как можно было жить с такой одуряющей болью. Нога плохо слушалась, она оставалась скрюченной, и даже после войны я долго не могла распрямить ее до конца.
Кроме еженедельных селекций, немцы любили устраивать внезапные неплановые проверки. Мы знали об этом и выставляли дозорных, которые, когда видели, что нацисты идут к нам в палату, кричали: «Шесть!», и все успевали лечь на свои места и укрыться одеялами. Проверки выглядели так: врывались офицеры, крепкие, сытые, высокомерные и наглые, чисто и тепло одетые; они переходили от одного топчана к другому, приподнимая одеяла своими тростями, и бессовестно рассматривали нас. Мы пытались улыбаться им и вообще выглядеть довольными и веселыми, всем своим видом показывая, что с нами все в полном порядке. Это было необходимо, ведь они могли любую из нас по своему желанию отправить в газовую камеру.
Иногда я удивлялась, зачем немцы вообще заводили подобные госпитали для больных, когда основная их цель состояла в том, чтобы уничтожить как можно больше евреев? Зачем же им надо было лечить нас? Я нашла ответ: они это делали для того, чтобы еще больше увеличить наши страдания. Они хотели нас не просто убивать, а мучить, терзать, унижать. Мы могли судить об этом по их лицам — наши страдания доставляли им удовольствие. Они делали все, чтобы жизнь для нас была как можно более невыносимой. Я хочу, чтобы все помнили об их немыслимой жестокости. Лагеря смерти были не только местом, где уничтожали людей, где их просто убивали и сжигали, как мусор — это было место, где настоящие садисты давали выход своим самым жестоким и наиболее извращенным фантазиям.
Время от времени к нам в палату приходил какой-нибудь капо и занимался сексом с кем-нибудь из молоденьких заключенных. Они любили это делать открыто, бесстыдно, на виду у всех. Я, наблюдая все это, не вполне понимала, что собственно там происходит… Девушка обычно получала за свои услуги бутерброд или кусок колбасы. Никто девушек за это не осуждал, все так хотели есть, что ради возможности раздобыть себе хоть немного еды могли пойти на что угодно. Но все понимали и другое — у девушек не было выбора. Попробуй кто-нибудь из них не согласиться, ее мгновенно отправили бы в газовую камеру, то есть это было настоящее изнасилование. Я помню, что у одной такой в нашем госпитальном бараке был маленький ребенок; так капо за то, что ребенок заплакал, выбросил его наружу и убил.
Мы с мамой, поскольку лежали бок о бок, часами вспоминали счастливые дни жизни во Франкфурте до того, как нацисты захватили власть, и всех, кого мы потеряли: отца, дядю Бенно. Мы гадали, освободили ли русские Ковно достаточно быстро, чтобы успеть спасти из гетто родителей моей мамы и ее брата Якоба. А, кроме того, мама очень переживала за моего брата Манфреда, которого мы не видели с тех пор, как нацисты отправили нас в Штуттгоф. Куда они увезли его? Удалось ли ему уцелеть? Увидим ли мы его когда-нибудь снова?
Я изо всех сил старалась представить наше счастливое будущее. Я придумала безоблачную страну, которую назвала Земля Израиля, где мы будем жить в безопасности и комфорте. Я представляла себе, что мы будем там есть: великолепные фрукты и вкусные бублики с маслом. Но более всего я мечтала о чашке горячего шоколада.
Еды нам давали очень мало. Мы пребывали в постоянном страхе, мы очень боялись, что нас все-таки отправят в крематорий. До нас доходили слухи, что немцы определенно проигрывают войну, но кто знает, что им придет в голову под конец?
Раз или два за день комендант лагеря приходил в госпиталь и глядел на меня через застекленное окошко в двери. Он больше никогда не входил в помещение и никогда со мной не разговаривал. Возможно, просто хотел убедиться, что я еще жива. Моя нога понемногу заживала, но я еще не могла на нее опираться.
* * *
Тем временем положение в лагере стало меняться. После января 1945 года немцы перестали использовать газовые камеры, заключенные непрерывно умирали и без газа «циклон В», потому что крематорий работал круглые сутки.
Вокруг нас с мамой люди отправлялись на тот свет. Сначала они превращались в мусульман — их руки и ноги становились очень тонкими, а живот вздувался. Доктора, заботившиеся о нас, делали все, что могли. Лекарств и инструментов не хватало или не было вовсе. Не было ни бинтов, ни постельных принадлежностей, ни средств дезинфекции. Медперсонал, состоявший из евреев, находился под пристальным досмотром нацистов. Им запрещалось категорически тратить на нас даже скудные лекарства. Если они пробовали настаивать, их ждали большие неприятности от начальства. Как правило, больные были предоставлены собственной судьбе. Выживали единицы, счастливчики, те, кому повезло. Подавляющее большинство же постепенно теряло силы, истощалось и умирало.
С начала 1945 года русские начали регулярный обстрел лагеря. Комендант тут же исчез. Говорят, что он куда-то сбежал, и я не знаю, был ли он пойман и предстал ли после войны перед судом. Его следовало бы повесить тысячу раз. Я сама, без сомнения, дала бы против него показания. По какой-то непонятной прихоти он решил спасти нас с мамой, но он в ответе за остальные тысячи убийств. Кстати, еще неизвестно, что за судьбу он мне готовил.
Первая эвакуация из Штуттгофа было проведена в конце января. В последние месяцы войны система нацистских концлагерей стала разваливаться. Понятно, что нацисты хотели замести следы своих преступлений. Длинными колоннами они уводили из лагеря тех заключенных, кто мог передвигаться самостоятельно — таких набралось тысяч двадцать пять — и гнали их в другие лагеря на территории Германии. Это были походы смерти. Многие погибли по дороге от холода и голода, многих расстреляли в пути за малейшую остановку. Из тех, кто остался в живых после этих переходов, многие были уничтожены уже на месте.
Около десяти тысяч заключенных, включая нас с мамой, оставили в Штуттгофе. У нас не было сил, чтобы передвигаться самостоятельно. В это время моя мама лежала с тифом. Ее перевели в изолятор — отгороженную часть лазаретного барака, в палату, где находились еще тридцать тифозных больных. Входить туда формально было запрещено, но это меня не останавливало. Кроме того, никто из немцев не возражал против посещения евреями тифозного отделения; они охотно закрывали глаза на то, что люди там заражаются и разносят потом заразу по всему лагерю.
Евреи умирали от тифа с потрясающей скоростью. В лагере царил полный беспорядок. Крематорий не справлялся с таким количеством трупов, и немцы соорудили огромный погребальный костер, чтобы как-то разрешить ситуацию. Жирный дым и смрад сжигаемых трупов висел в воздухе днем и ночью. Красная Армия время от времени обстреливала лагерь из орудий, но сама не появлялась и освобождать нас не спешила.
Без мамы я целыми днями лежала у себя на нарах. Селекции и инспекции прекратились, и немцы оставили нас в покое. Каждый день я ковыляла в мамину палату, чтобы посмотреть, как она там? Мне было страшно тяжело ходить, но я так скучала без мамы… Обычно эти визиты приходились на вторую половину дня, поскольку ни одна из заключенных не рискнула бы оставить свое место до того, как получит и съест свой суп. Если по какой-то причине пропустить момент раздачи, то вам уже никто ничего не оставит, а в этой миске и заключался весь наш дневной рацион.
Как-то утром я была разбужена странным ощущением, как если бы кто-то вогнал мне в бедро гвоздь. Меня переполняла какая-то тревога, которая как-то была связана с моей матерью. Голос — иногда я думаю, что это был голос Бога, — сказал: «Встань и иди в палату к маме. Посмотри, что с ней».
Голос был настолько силен и звучал так четко, что я, рискуя лишиться супа, не осмелилась ослушаться. Я выползла из постели и похромала в изолятор к маме. Я торопилась изо всех сил. Мне вдруг показалось, что она умерла. Когда я подошла к ней, она спала. Мама открыла глаза, и я тут же спросила ее:
— Как ты спала эту ночь?
Едва слышно она ответила:
— Слава богу, хорошо.
Боже, какое облегчение! У нее кончилась горячка! Значит, она пошла на поправку…
Не успела я это подумать, как раздался страшный взрыв. В наш госпитальный барак попал русский снаряд. Меня бросило на пол. Когда я сумела подняться на ноги, мы с мамой ощупали себя, пытаясь понять, ранены или нет. Нет, мы были целы. Из коридора, где я только что была, тянуло дымом. Я захромала обратно к себе на нары, но увидела, что их нет. Оказывается, снаряд пробил стену и разорвался в моей палате. Все мои соседки были мертвы. Все, кто находился там, были разорваны осколками в клочья. В других палатах тоже были убитые и раненые, которые кричали и стонали.
* * *
Невероятно, но моя мама выздоровела от тифа. И поскольку температура пришла в норму, на нее напал волчий голод. Никакой дополнительной еды в госпитале не давали, хотя известно, что после этой болезни человек испытывает ни с чем не сравнимый голод.
Настолько сильный, что выздоравливающий может просто сойти с ума, готовый проглотить все, что только может заполнить желудок: землю, грязь, траву, листья, стебли. Все, что угодно. И при том, что тифозные больные так в этом нуждались, никто не позаботился организовать для них дополнительное питание — им доставался все тот же водянистый суп. Не было даже в достатке простой питьевой воды. Докторов не было тоже.
После того, как колонны заключенных покинули лагерь, из него исчезли все офицеры СС, и мы остались наедине с охраной, среди которой тоже было достаточно заболевших. Но о том, чтобы бежать или поднять восстание, разумеется, не могло быть и речи — мы еле передвигались. Капо стали не такими свирепыми, как прежде. Все знали, что к нам приближаются части Красной Армии.
По мере приближения русских в лагере началась полная неразбериха. Прежде всего это сказалось на нашем питании. Еду нам время от времени приносили, и никто не мог сказать, когда это случится в следующий раз. В конце апреля немцы предприняли полную эвакуацию лагеря Штуттгоф. Еле живых от слабости, нас погнали пешком к побережью моря. Наш поход продолжался шесть часов. Конвоиры непрерывно орали: «Schnell! Schnell!».
Раненая нога во время марша мучила меня ужасно. Несмотря на то, что мое тело почти ничего не весило, я могла на нее только слегка опираться, а здесь надо было идти. Мама была слишком слаба после тифа, чтобы хоть как-то помочь мне, в любую минуту она сама могла умереть Я шла и кусала губы, чтобы терпеть эту боль, ведь избавление было совсем близко, и до него нужно было дожить. Мы были почти раздеты, свежий ветер с моря пронизывал нас до костей, никакой пищи нам не давали и не позволяли останавливаться.
В конце концов нас пригнали к трем баржам. После некоторого ожидания охрана загнала нас на борт, и баржи двинулись прочь от берега в открытое море. Это были довольно крупные суда с глубокими трюмами без каких-либо ограждений на палубе. Мы разместились на самом дне, на грязной соломе.
Никто не знал, куда нас везут; все, что мы слышали, это рокот мотора и плеск волн. Нас заливал дождь, баржа раскачивалась на волнах так, что, казалось, она перевернется. Мы лежали на грязной и мокрой соломе, молясь только о том, чтобы война окончилась раньше, чем мы утонем. Было очень холодно, многие страдали от морской болезни.
Нам совершенно не давали ни пищи, ни питья. Мы собирали грязную жижу, смесь морской и дождевой воды на самом дне трюма. Мы жевали солому, чтобы наполнить наши желудки. Немецкая команда глядела на нас сверху и весело кричала: «Животные! Грязные свиньи! Чтоб вы скорей подохли!» С нами были польские и украинские уголовники, которые выполняли в лагере самую черную работу, в основном работали в крематории, между собой мы называли их «троглодитами». Они выглядели совершенно дикими, и мы их очень боялись. Здесь, на барже, в их обязанности входило выбрасывание за борт трупов, потому что женщины в трюмах умирали.
Я удивляюсь, почему немцы нас куда-то повезли, почему они всех нас не сбросили в море, как только баржи отчалили от берега, ведь их задача и состояла в том, чтобы нас уничтожить. И опять же у меня есть только одно объяснение: они хотели усугубить мучения, сделать их совершенно непереносимыми и продлить наши страдания как можно дольше. Иногда у них не хватало терпения, и они приказали выбросить за борт несколько старых женщин и одну молодую, которые выглядели совершенно больными. Их выволокли на палубу и живьем столкнули в воду. Я очень испугалась, что они заметят мою маму и поступят с нею так же, а потому закопала в ее солому и накрыла своим телом, что, кстати, помогало нам сохранить тепло.
У немцев тоже не было никакой еды, кроме консервированного хлеба. Иногда для забавы они бросали его женщинам в трюм. Один матрос подмигнул мне и кинул прямо мне в руки такую маленькую жестянку. Хлеба там было от силы грамм 150. Заметив это, остальные женщины моментально набросились на меня и стали вырывать ее у меня из рук. Я вцепилась в жестянку изо всех сил и не отдавала. Натешившись, матрос осадил их криком: «А ну, назад! Это для девушки!». Отстояв добычу, убедившись, что на нее больше никто не посягает, я задумалась, как мне открыть ее? Под соломой я нашла гвоздь и стала ковырять им банку. Я не обращала внимания на то, что порезалась о края — так мне хотелось есть, так мне нужно было дать маме хоть немного еды. Сражаясь с этой жестянкой, я старалась держаться подальше от чужих глаз, но не тут-то было. Все взоры были направлены на меня. И когда я ее, наконец, вскрыла, они накинулись, готовые, в буквальном смысле слова, меня растерзать. Голод превращал нас в зверей, из-за еды мы были готовы убивать друг друга.
С каждым днем наше состояние становилось все хуже и хуже. Я не знаю, куда немцы собирались уплыть, потому что в начале мая 1945 года все побережье Балтийского моря было в руках союзников. Впрочем, мы у себя в трюме этого не знали. Мы слышали тяжелый рокот британских бомбардировщиков, которые свободно летали, не опасаясь истребителей «Люфтваффе». Это уже был совершенно явственный признак окончания войны.
4 мая, едва ли не в последний день войны, эти самые бомбардировщики атаковали нашу баржу и подбили ее. Баржа получила большую пробоину и, накренившись, стала тонуть, на борту возник пожар. Все оцепенели от ужаса. Я инстинктивно, как лошадь в конюшне, охваченной огнем, первая пришла в себя, вскочила на ноги, схватила маму и, что было сил, потащила ее за собой к железному трапу. Быстро поднявшись, я обернулась и вытащила маму наверх, а то эти уголовники, гонимые страхом, кинулись наверх, ухватили мою маму за ноги и хотели сбросить ее обратно. К счастью, на ногах у нее были деревянные «стукалки», они остались в руках уголовников, а мы обе оказались на узкой палубе и быстро перебрались на самое высокое место.
Тут впервые у меня появилась возможность посмотреть на море. Потребовалось какое-то время, чтобы мои глаза привыкли к сильному и яркому свету. Был пронзительный, ясный день. Вокруг нас были видны другие переполненные заключенными баржи. Некоторые из них, подобно нашей, тоже имели повреждения. Британские военные корабли маячили на горизонте. Они приближались. Немцы выбросили белые флаги. Это были флаги поражения. Я обняла маму. Война была окончена, а мы остались живы.
Тем временем наша баржа, кренясь все больше, начала погружаться в воду. Все новые и новые узники выбирались из трюма по раскаленной железной лестнице. Они толпились сейчас на узкой палубе. По каким-то причинам главным на барже оказался немец-кок, который командовал всеми. Похоже, что кроме него никого из немцев уже не осталось, они все куда-то пропали. Кок стоял на палубе, кутаясь в одеяло, и пытался навести порядок. У его ног быстро расплывалась темно-красная лужа. Я поняла, что кок серьезно ранен. Дико оглянувшись вокруг, он вдруг заорал: «Das Schiff ist zu schwer! Juden ins Wasser!».[5]
Я не поверила своим ушам. Почему евреев? Потому что баржа тонет? Но на палубе громоздится множество тяжелых грузов, громоздких предметов, которые можно было бы отправить за борт. Все мы, оставшиеся тридцать истощенных женщин, весили меньше, чем одна корзина с амуницией!
Но никто не пошевелился. И снова раздался истерический приказ: «Евреев — за борт!» Уголовники стали надвигаться на нас, собираясь привести этот приказ в исполнение. Мы отступали к борту. Невероятно! Баржу окружили английские корабли, немцы выбросили белые флаги, а эти «троглодиты» собираются сбросить нас в воду! Для того ли мы выжили в Штуттгофе? На глазах у англичан, которые подходили все ближе, шайка уголовников теснила нас к борту, и никаких ограждений за нами не было. Если никто их не остановит, мы просто попадаем в воду одна за другой. Женщины, как могли, пытались сопротивляться. Я оказалась ближе всех к краю, поскольку первой выбралась из трюма; я видела под собой чистую ледяную воду. Мне было понятно, что если я туда упаду, то сразу погибну. Ветер дул мне прямо в лицо. Британский корабль приближался прямо ко мне, но делал это очень медленно.
И тут ко мне пришло вдохновение. Я вспомнила рассказы моего отца о древних героях, умиравших со словами «Shema Israel».[6] Я обратилась к Богу еще раз. Он позволил свершиться ужасным трагедиям. Похоже, что он несколько лет не смотрел на землю, но, может быть, он услышит меня сегодня? И, воздев руки в драматическом жесте, я крикнула ему так громко, как могла: «Услышь меня, боже!..» Откуда взялись во мне силы выкрикнуть это с такой мощью?
И тут немец-кок громко сказал уголовникам:
— Отставить, — и спросил меня: — Что ты кричала?
— Я молилась моему богу, — гордо ответила я.
— Он тебе не поможет, — засмеялся кок. — Ты сейчас упадешь в воду, и тебя сожрут рыбы.
— Не сожрут, — дерзко ответила я. — Бог хранил меня до сих пор и сейчас не даст погибнуть. А вот вы, немцы, скоро пойдете кормить собою рыб. Вы уже все проиграли, и теперь, когда англичане увидят, что вы с нами сделали, они вас повыбрасывают за борт, — и я вытянула руку по направлению к английскому кораблю, который подошел так близко, что можно было рассмотреть матросов на палубе.
Мои слова заставили его задуматься. Через некоторое время он скомандовал: «Евреи остаются!», и уголовники перестали напирать. Таким образом, никто из тридцати женщин не был выброшен за борт. Мои молитвы и уверенность в себе поколебали его. А может, что-то случилось с ним самим.
— Девочка, — сказал кок, — это было здорово. На, — он скинул с себя одеяло и протянул мне, — возьми. Согрейся.
До этой минуты я не чувствовала, что замерзла. Мы с мамой завернулись в это заляпанное кровью одеяло и прижались друг к другу, а кок упал и потерял сознание.
5
Евреев в воду! (нем.)
(обратно)
6
Слушай, Израиль.