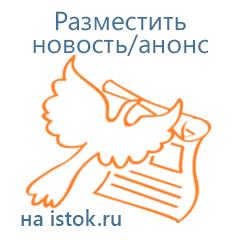6. Освобождение
6. Освобождение
Был ранний майский вечер 1945 года. На палубе тонущей горящей баржи столпилась странная компания из восьми немецких матросов, четырех польских уголовников и тридцати еврейских женщин — страшных, тощих и оборванных. Все немцы были ранены.
В конце концов английский военный корабль приблизился вплотную, навис над нами, и через громкоговоритель по-немецки с английским акцентом громкий голос приказал нам поднять руки вверх. На палубу шлепнулся тяжелый трос, и тот же голос приказал пришвартоваться. Затем англичане спустили вниз веревочную лестницу и пригласили подниматься на борт. Карабкаться по ней было очень трудно. Расстояние между двумя судами было довольно большим, но понимание того, что это последние метры, отделяющие нас от полного освобождения, придавало нам силы. Немцы разбиты, они проиграли, мы больше не в их власти, мы свободны.
Английские матросы работали быстро и умело. Они охотно помогали нам, но улыбок на их лицах при этом не было. Наверное, трудно было улыбаться, увидев людей в таком состоянии. Англичане не отделили на своем корабле евреев от немцев. Вместе с нашими недавними мучителями мы дожидались, пока нам принесут по кружке горячего английского чаю с молоком. И мы бросились за этим чаем, как дикари, толкаясь и ругаясь. Мы настолько деградировали, что не могли себя вести как цивилизованные люди.
Английские матросы подняли и немца-кока на борт своего корабля, но он вскоре умер от потери крови. Без особых церемоний его похоронили в море. Я оказалась права: именно он, а не я отправился к рыбам. У меня осталось его одеяло, это была моя законная добыча, дарованная мне богом, услышавшим мои молитвы…
Англичане очень сочувствовали нам и готовы были кормить нас без конца, но корабельный врач вовремя остановил их. Он приказал давать нам крошечные порции супа и хлеба, чтобы мы не погубили себя неумеренностью. Мы так давно не получали пищи, что, набросившись на еду, могли нанести себе непоправимый вред. Нас не убил голод, но мы могли погибнуть от еды.
Пока мы плыли до Киля, наступила ночь. На берегу нас разместили в школьном общежитии. Многие тут же ринулись на кухню и стали пихать в рот все, что попадется под руку. Помнится, я нашла в одном из ящиков пищевую соду и стала есть ее ложками. К счастью, я вовремя остановилась, а других, в том числе мою маму, неожиданное изобилие привело к серьезным пищеварительным расстройствам.
Первое время англичане совершенно не представляли, что с нами делать и как нам помочь. Они поместили нас в госпиталь, где весь персонал состоял из немцев, которые, по-прежнему ненавидели нас, всячески обижали и унижали, относились к нам, как к заключенным уголовникам, совершившим страшные преступления. Но наши жизни больше не зависели от их благорасположения, и мы отвечали им тем же — это был первый признак того, что наше освобождение нам не пригрезилось, это на самом деле.
Я годами мечтала о чашке горячего шоколада. Мечтала с той минуты, когда оказалась заперта в Ковенском гетто. Сейчас, после освобождения, мне предлагали какао каждый день, но я не могла выпить ни глотка. Моя пищеварительная система была столь же хрупкой и чувствительной, как у новорожденного. В это время все мы сходили с ума по хлебу. Мы ели его и не могли им наесться. Мы набивали хлебом карманы, чтобы он всегда был у нас с собой. Кстати, даже сегодня, когда у меня случаются приступы депрессии, моя первая мысль о хлебе: «Труди, проверь, есть ли у тебя с собой хлеб?»
Когда мы карабкались по веревочной лестнице с тонущей баржи на английский эсминец, мы совершили переход от положения рабов, если не хуже — животных, к нормальному состоянию человеческих существ, заслуживающих заботы и медицинской помощи. Мы совершили внезапное возвращение в область основных прав человека, которые у нас отобрали нацисты в 1941 году. Тогда мы были отданы на произвол, и любой «ариец» мог с нами делать все, что захочется: избивать, унижать, заставлять работать, казнить или миловать. И вот, в одну минуту, мы получили все обратно. Понадобились, однако, долгие месяцы, если не годы, прежде, чем мы полностью освоились с возвращением в мир нормальных человеческих отношений.
Период моей жизни с начала Холокоста до моего освобождения в 1945 году лежит в стороне от нормального потока времени. Летом 1941-го, девочкой-подростком, я попала в Ковенское гетто и оставалась точно такой же до 1945-го, когда меня освободили англичане в Балтийском море. Тяготы этих ужасных лет не давали мне возможности развиваться физически. В эмоциональном плане у меня тоже были отклонения. Я словно оцепенела от непреходящего страха, горестей и страстного желания жить во чтобы то ни стало. Усилием воли я заставляла себя улыбаться во время войны немецким солдатам в надежде получить от них кусок хлеба. По за все это время я ни разу не улыбнулась просто от радости, потому что не было у меня радостей долгие годы. Быть может, единственным нормальным человеческим чувством, которое у меня сохранялось все это время, была любовь к матери. В тех нечеловеческих обстоятельствах мы на какое-то время перестали быть людьми. То, что кто-то из оставшихся в живых сразу после войны нашел в себе силы вернуться к нормальной жизни, завести семью и стать полноценным гражданином своей страны, воспринималось как нечто немыслимое. Я же чувствовала себя просто куском камня. В первый раз у меня появилось это ощущение, когда я оказалась в крематории, перед печкой. Я словно превратилась в статую и такой оставалась. По-прежнему все мысли были только о хлебе — это было какое-то безумие. Как тут было вернуться к нормальной жизни? Выход был один: начинать жизнь сначала, потому что продолжать было нечего, верней, то, что случилось, нельзя было продолжать.
Я снова стала расти, но тела переживших лагерь стали непропорционально меняться: одни части пускались в рост, а другие оставались такими же дистрофическими. На улицах немцы показывали на нас пальцами, они узнавали в нас бывших заключенных и смеялись над нами. На первом же медицинском обследовании у нас с мамой обнаружили туберкулез и положили в госпиталь. Но у мамы все было очень не просто, ее жизнь оказалась в опасности. С первого дня, когда она отведала настоящей еды, у нее открылась диарея, сильнейший понос, который никак не удавалось остановить. Началось обезвоживание организма. Она продолжала истощаться, и было похоже, что на этот раз у нее не хватит сил выкарабкаться. Мне было больно на это смотреть. Для того ли она спасала меня? Для того ли я спасала ее? Нет, так не должно быть, думала я.
И вот однажды я вышла из госпиталя и побрела по парку. Был теплый солнечный июньский день. Всхлипывая, я шла между цветов и деревьев. Я была свободна, но что мне эта свобода, если радость от нее я не могла разделить с мамой. Лежа вдвоем на нарах в Штуттгофе, мы мечтали о том, как пойдем на прогулку вдвоем по тропинке. И вот сейчас я шла по прекрасному парку, но мамы не было рядом. Она не могла сойти с больничной койки. Убедившись, что рядом никого нет, в каком-то укромном месте я обратилась к богу: «Спаси мою маму! Верни мне ее!», — попросила я. Что это было? Припадок безумия? Как мне могло прийти в голову уповать на милость того, кто допустил гибель миллионов евреев?
Разве он услышит мою одинокую молитву? Я не знаю, как это случилось, наверно, кто-то внутри меня выкрикнул эти слова. Не знаю кто. Но начиная с этого дня моя мама пошла на поправку. Ее кишечник принялся переваривать пищу, и начался долгий путь к выздоровлению.
В Киле нас лечили месяц или два. Нам выдали новую одежду, но вопросы одежды, боюсь, нас совсем не волновали. Нас пьянила свобода, мы могли гулять сколько заблагорассудится. В госпитале не было ни социальных работников, ни психологов. Нам приходилось самим прокладывать пути к новой жизни. Основным занятием стал поиск родных и друзей, оставшихся в живых. Все разговоры начинались с того, что люди называли «еврейской географией». «Вы откуда? Где вы были во время войны? Вы не слышали там о таком-то, вы не встречали его? Может быть, вы знаете, кто был вместе с ним?». И, как правило, слышали в ответ горькие вести: «Да, мы знали его. Он умер», или: «Его убили», или: «Он попал в газовую камеру». Надежды, которые поддерживали людей во время войны, умирали после освобождения. Мы с мамой все еще питали надежду на то, что ее брат, Якоб, и родители дождались в своем убежище, когда русские освободят Ковно, кроме того, нам с мамой не давала покоя судьба Манфреда, мы спешили узнать, что с ним.
И тут нам на помощь пришло Еврейское агентство по освобождению. Первое, что они сделали, это начали составление и публикацию списков уцелевших евреев. Каждый раз, как только появлялся новый список, мы с мамой начинали искать в нем наших близких, понимая, что шансов найти имена своих близких очень мало. Невероятно, но однажды мы обнаружили там некоего Манфреда Симона из Франкфурта! Франкфурт был наш родной город! Мы решили немедленно отправиться туда. Ни о какой переписке даже речи быть не могло. У нас не было точного адреса Манфреда, а, кроме того, Германия лежала в руинах, почтовая служба работала с перебоями и была ненадежна. Кто знает, дойдет ли письмо, а если дойдет — то когда?
По пути из Киля во Франкфурт мы вспоминали нашу жизнь до войны, но мы не могли забыть и Мемель, и Ковно, и Штуттгоф, и всех, кого мы потеряли. Мама старалась не обольщаться: кто знает, может быть, это не тот Манфред Симон? Что до меня — у меня не было никаких сомнений. Я была совершенно уверена, что этот Манфред Симон — мой брат, и мне не терпелось увидеть его снова после долгой разлуки.
К счастью, этот Манфред Симон оказался моим братом Манфредом. Мы легко разыскали его благодаря Дите, которая работала в Еврейском агентстве. Наша встреча была необыкновенно трогательна. После первых минут ликования мы смотрели друг на друга, как на привидения — мы ведь уже потеряли надежду увидеться снова. Я помнила Манфреда мальчиком, подростком, юношей, для меня он всегда был обожаемым братиком, прекрасно одетым, воспитанным, гордым, но страдания последних лет изменили его до неузнаваемости, он теперь выглядел старше своих лет.
Мне было интересно, какой показалась ему я? Я уже не была тощей девочкой, которую он последний раз видел в гетто. У меня снова стали отрастать волосы, и я чувствовала, как меняется мое тело. Я чувствовала, что с каждым днем становлюсь все более женственной. К моменту освобождения исполнилось ровно четыре года с того момента, как я в последний раз гляделась в зеркало. Каждая девочка любит смотреться в зеркало, придумывать себе различные прически, пробовать мамины духи, примерять ее драгоценности, платья и туфли. В гетто я могла видеть свое отражение только в оконном стекле — но что там можно было увидеть хорошего? Сразу же после освобождения, когда нас разместили в школьном общежитии, я посмотрела на себя в зеркало над умывальником. То, что я увидела, меня испугало. Из зеркала на меня глядело какое-то страшилище, я не могла поверить своим глазам. Мне казалось, что я не такая, как все эти окружающие меня, полуживые, истощенные, замученные женщины, а я была точно такой же. После этого я долгое время избегала смотреть на себя, пока однажды не поймала себя на том, что я пристально вглядываюсь в зеркало, стараясь понять, каким же образом это лицо оказалось моим. Сейчас, после двух месяцев лечения и нормального питания, мне казалось, что я опять стала хорошенькой. Что же бросилось в глаза Манфреду — следы пережитых страданий или моя молодость? У меня не хватило смелости спросить его об этом.
Из Ковно Манфреда с другими мужчинами отправили в Дахау. История его спасения звучала столь же невероятно, как наша с мамой. Что это было: счастливая судьба, божий промысел или удача — никто не знает и уже никогда не узнает. После того, как американская армия освободила узников Дахау, Манфред отправился во Франкфурт, туда, где родился. Поразительно, что и Дита сразу после освобождения тоже отправилась во Франкфурт. Они встретились и поселились в квартире, прежде принадлежавшей какому-то нацистскому бонзе, который не то погиб, не то скрывался, опасаясь ответственности за свои преступления. После войны многие евреи занимали квартиры своих палачей. Это не было сведением счетов: прежде всего, мы нуждались в крыше над головой. И никто не осмелился возражать — немцы знали, что они с нами сделали.
Кажется, во время нашего первого визита во Франкфурт мы узнали, что перед тем, как Красная Армия освободила Ковно, нацисты заживо сожгли всех, кто еще оставался в гетто, в том числе и родителей мамы и ее брата Якоба. Солдаты методично переходили от одного укрытия к другому, забрасывали чердаки и подвалы гранатами, а затем поджигали дома из огнеметов, ликвидируя таким образом беззащитных стариков и старух, которые рискнули остаться в гетто. Мы узнали также, что моя тетя Тита и ее муж были убиты в Риге. И теперь не оставалось уже никого, чьи имена мы могли бы найти в информационных списках.
Теперь нам ничего не оставалось, как задуматься над тем, куда мы уедем из Германии. Манфред и Дита собирались в Америку и очень хотели, чтобы мы с мамой присоединились к ним. До войны в Америку уехало множество наших родственников. Через агентство «Джойнт» они разыскали нас и оформили вызов, дающий право на эмиграцию в Соединенные Штаты. Они нас ждали. Это была восхитительная перспектива — попасть в Америку, в страну, где все мечты становились явью; страну, не тронутую разрушительной войной. Я не могла дождаться нашего отъезда.
После встречи с Манфредом мы с мамой вернулись в Киль. Англичане обследовали нас и, поскольку сочли наше состояние удовлетворительным, отослали в Фельдафинг, приятный курортный городок на берегу озера Штарнбергер, к югу от Мюнхена. Там нас поселили в скромной квартире, где мы стали дожидаться американской визы. Мы продолжали свое лечение в госпитале Фельдафинга, одновременно наслаждаясь красотами окружающей нас природы. Поскольку медицина меня очень заинтересовала, я попросилась в лабораторию госпиталя, начав, таким образом, неформальную подготовку к работе с медицинской техникой. В Фельдафинге мы встретили двоюродную сестру моей мамы, которая тоже чудом уцелела.
Через месяц или около того мама захотела снова увидеть Манфреда. Сегодня от Мюнхена до Франкфурта можно доехать за несколько часов, но в 1945 году на это мог уйти целый день. Для мамы, которая только начала поправляться, поездка в переполненном вагоне была просто опасна, но мама села и поехала. Естественно, я очень беспокоилась за нее.
Когда мама добралась до Франкфурта, то обнаружила, что в доме у Манфреда живет еще один молодой человек. Его звали Вилик, и он тоже был из Ковно. Вилик — это уменьшительное от Вильяма. Дита знала его еще до войны. Когда Вилик после освобождения пришел в Организацию бывших заключенных, где работала Дита, она узнала его и тут же предложила переселиться к ним в квартиру.
Как и Манфред, Вилик был в Дахау, а после освобождения остался в расположении Третьей американской армии, освобождавшей этот концлагерь. Он работал у американцев переводчиком и помогал на кухне. Готовить Вилик, конечно, не умел, но, когда ему поручили приготовить на завтрак джем с маслом, он что-то не так понял: взял огромную кастрюлю, плюхнул в нее и то и другое, перемешал и разложил по тарелкам. Солдаты очень удивились, получив эту странную смесь, но она пришлась им по вкусу, и с тех пор Вилика прозвали «Билл — масло-с-джемом». Командование тоже вполне оценило его таланты, так что, когда поступил приказ о возвращении американцев за океан, командир части приготовил все необходимые документы, дававшие Вилику право вместе с армией эвакуироваться в Америку.
Вилик остался совершенно один, его родители и брат были убиты в гетто. Тем не менее, уезжать в Соединенные Штаты ему не хотелось, потому что он давно мечтал поселиться в Палестине, находившейся тогда под юрисдикцией Англии. Перед войной Вилик стал активным сионистом и никогда не отступался от своих идеалов, он был участником сионистского подполья в концлагере.
Обосновавшись во Франкфурте вместе с Дитой и Манфредом, Вилик разъезжал по всей Германии с бывшими солдатами Еврейского легиона и другими сионистскими эмиссарами, которые прибыли в Европу для организации нелегальной эмиграции в Палестинские земли, где позднее будет создано государство Израиль. Ему очень помогали связи, которые он приобрел в американской армии. В это же время Вилик вернул себе свое еврейское имя — Зеев. Он знал иврит много лучше большинства посланцев подмандатной Палестины, поскольку был выпускником Еврейской гимназии. Когда Бен-Гурион приехал в Европу, он не мог поверить в то, что Вилик никогда в самой Палестине не был, так хорошо он говорил на иврите.
Моя мама сразу почувствовала к нему расположение. Он ей показался человеком интеллигентным и тонко организованным, про таких немецкие евреи говорили: «Kinderstube», то есть «мальчик получил хорошее воспитание». Вилик тоже пришел от мамы в восторг: она была интеллигентной, утонченной женщиной, получившей хорошее образование и воспитание, говорящей на отличном немецком и сохранившей достоинство даже после всех бедствий войны. К сожалению, один глаз у нее совсем не видел — последствия авитаминоза, и она очень боялась, что глаз этот придется удалить. Мама привезла Манфреду мою фотографию. Когда Вилик увидел ее, то решил, что это именно та девушка, которая ему нужна, и решил на мне жениться, но никому ничего не сказал.
Манфред и Дита упросили маму отпустить меня к ним погостить. Вернувшись в Фельдафинг, я в сопровождении маминой кузины отправилась во Франкфурт. Путешествие поездом от Мюнхена до Франкфурта продлилось более тринадцати часов. Это был настоящий кошмар. Вагон был полон бесчинствующих пьяных немцев. «Эсэсовцы, — думала я, — настоящие эсэсовцы! Сколько евреев они убили, ограбили и присвоили их имущество?»
На перроне во Франкфурте нас встречал Манфред. На мне было одно их двух платьев, которые мне прислали из Америки, — совершенно девичье, коротенькое, на ногах гольфы до колена и черные кожаные туфли, а на голове кудри — я отрастила восхитительные волосы, они были уложены венчиком, и челочка на лбу. Вот только глаза у меня гноились от какой-то инфекции, а о фигуре вообще лучше не вспоминать: где густо, где пусто. Кроме всего прочего, я страдала приступами астмы, а потому кашляла и хрипела.
Манфред обнял нас, подхватил узелок маминой кузины, и мы пошли в город. А Вилик тоже втихаря от Манфреда пришел на вокзал. Пока мы поднимались по лестнице, он наблюдал издали, а уже на площади подошел и сделал вид, что случайно оказался в этом месте.
— О, привет! — сказал он. — Ты, должно быть, Труди, сестра Манфреда. Я видел твою фотографию, а, кроме того, Манфред так много рассказывал о тебе. Очень рад, что вы приехали! — и с этими словами Вилик подхватил мой багаж, и мы пошли домой вместе.
* * *
Мои первые впечатления о Зееве были очень приятными. Предо мной стоял худой, высокий, черноволосый молодой человек с интеллигентным взглядом карих глаз. Одет он был очень просто, но в нем чувствовалось что-то аристократическое. Прибавьте к этому уверенность в себе, безо всякой наглости, и вы поймете, почему я сразу поняла, что он очень добрый и достойный человек, заслуживающий доверия, культурный, воспитанный и вместе с тем очень волевой и целеустремленный. Еще до того, как мы поднялись на последнюю ступеньку лестницы, он объявил мне, что мы с ним уедем в Палестину. Я даже подумала, что он немного спятил.
После замечательной недели во Франкфурте я вернулась в Фельдафинг и продолжила свое лечение в госпитале. Врачи и сестры относились ко мне с большой теплотой и с радостью учили меня обращаться с лабораторной техникой. При этом они непрерывно говорили мне одно и то же: «Ты такая молоденькая и красивая, но почему ты никогда не улыбаешься? Что у тебя случилось?»
Я кратко отвечала им: «Да. Случилось то, о чем я никогда не смогу забыть». Как могла я объяснить им, что четыре года я заставляла себя улыбаться своим мучителям, чтобы они меня не убили?
Зеев часто навещал меня в Фельдафинге. По своим нелегальным делам ему приходилось много ездить. В лагерях для перемещенных лиц они набирали группы еврейской молодежи и готовили их к нелегальной переброске в Палестину: обучали ивриту, народным песням, приемам самообороны. Потом эти группы отправляли в порты Средиземного моря, а оттуда на судах чартерными рейсами в Палестину, вопреки воле Британского правительства, которое всеми силами сопротивлялось созданию государства Израиль.
Когда Зеев приезжал в Фельдафинг, мы с ним все время были вместе. Мне очень нравилось быть с ним. А когда его не было, очень скучала и беспокоилась, ведь его работа была сопряжена с постоянной опасностью.
Однажды кто-то постучал в дверь нашей маленькой квартиры в Фельдафинге и по-немецки назвал мое имя. Мы с мамой были дома одни. Первой моей мыслью было то, что кто-то принес известия от Зеева, я даже испугалась, что это плохие вести. К счастью, это оказалось не так. Плохих вестей не было. А то, что последовало после того, как я открыла дверь, относится к самым странным явлениям, когда-либо происходившим со мной, и оставило неизгладимые впечатления на всю мою жизнь.
Итак, я открыла дверь и увидела высокого худого шатена с голубыми глазами и типичным еврейским носом. Он показался мне очень знакомым, но поначалу я так и не могла понять, откуда я его знаю. По моему выражению лица он понял, что я нахожусь в затруднительном положении. Поэтому он сказал: «Ты меня уже не помнишь, Труди?». Когда я услышала этот голос, то сразу узнала его. Это был Аксель Бенц, тот самый немецкий солдат, с которым мы разговаривали по дороге из Ковенского гетто на работу в госпиталь, тот самый, что подарил мне свои золотые часы. Никогда не думала, что снова увижу его. За время войны я встретила много людей, память о них помещалась у меня в какой-то закрытой области сознания, куда я очень редко заглядывала, ибо все, что было с ними связано, отдавалось болью воспоминаний: ведь они умерли. И вот теперь один из них, Аксель Бенц, возник предо мной живым и невредимым. Я была очень этому рада.
— Не хочешь ли немного прогуляться со мной? — спросил он. — Может быть, выпьем по чашке кофе?
Я не могла принять его приглашение. Как можно мне появляться на улице в компании с немцем?
— Нет, — сказала я. — Но вы можете зайти к нам. Пожалуйста, заходите. Вы можете даже сесть. — И я указала ему на стул с прямой спинкой, стоявший возле обеденного стола. Аксель Бенц переступил порог.
— Хотите есть? Или чего-нибудь выпить?
— О, нет. Я не могу…
— Не беспокойтесь. Сейчас у нас нет проблем с едой. Да садитесь же…
Аксель Бенц опустился на стул. Я пошла поставить чайник, после чего подсела к нему за стол.
— Как вы меня нашли? — спросила я. Возможно, правильнее было бы спросить его: «Почему вы стали меня разыскивать?» Или: «Что было с вами после Ковно?», — любому, кто уцелел на войне, можно задать миллион вопросов, но мне не хотелось знать ничего о том, кто воевал на стороне наших злейших врагов.
Аксель Бенц рассказал мне историю своей жизни, не дожидаясь моих вопросов. Из Ковно его часть попала на Восточный фронт, в Россию, где все его товарищи были либо убиты, либо попали в плен к русским в 1943 году.
«Это хорошо, — подумала я про себя. — Туда им и дорога. Побольше бы их убивали, так и война бы скорей кончилась». Ну, а если бы Аксель Бенц тоже погиб? Этот вопрос меня немного смутил. Аксель Бенц не был человеком зла. Он был добр ко мне, и я никогда не видела, чтобы он был жесток с кем-то другим. Конечно, я знала, что не все немецкие солдаты были закоренелыми преступниками. Я допускала даже, что и они страдали, но что их страдания в сравнении со страданиями и горем еврейского народа? Я не могла разделить скорби Акселя Бенца по своим товарищам. Мне их было нисколечки не жаль.
— Я искал твое имя в списках беженцев, — ответил Аксель Бенц. — Я помнил, что вы были из Ковно, и я молил Бога, чтобы он помог вам спастись. В конце концов я нашел тебя и специально приехал их Кельна, чтобы тебя увидеть. Кто знает, может, и в самом деле мои молитвы помогли?
Бенц задал мне множество вопросов обо всем, что случилось со мной после того, как мы виделись в Ковно, и был совершенно потрясен, услышав о том, что мне довелось пережить. Он плакал, не скрывая своих слез. Потом сказал: «Мне стыдно за мою страну. Мне так стыдно…»
Затем он признался мне, что уже совсем было решился жениться на одной итальянке, которую любил… но теперь ему кажется, что ничего из этой затеи не получится.
— Почему не получится? — спросила я.
— Потому что я хочу жениться на тебе, Труди, — сказал он.
У меня отнялся язык от удивления. Меньше всего на свете я ожидала такое услышать. Это было так невероятно, что я громко рассмеялась. Но, увидев, что он говорит серьезно, поняла, что и мне нужно ответить серьезно и честно. Но что ему сказать? Я была в большом затруднении и не представляла, с чего начать. В конце концов я сказала:
— Я не могу выйти замуж за немца после всего, что нацисты сделали с евреями.
— Я поменяю религию, перейду в иудаизм и эмигрирую в Палестину, — сказал он.
Это прозвучало совершенно нелепо. Аксель Бенц никогда не сможет превратиться в еврея. Какой еврей из бывшего солдата нацистской армии? Я не могу показаться с ним на улице, не то что выйти за него замуж. Он был утонченной, аристократической натурой, и он заметил меня, пожалел и сопровождал каждый день из гетто до госпиталя. Он утешал меня, когда говорил о близком конце войны, но самым великодушным его поступком было то, что он отдал мне свои золотые часы в надежде, что это поможет мне не умереть от голода. Тогда он сказал мне: «Надеюсь, мы встретимся снова». Я пришла в отчаяние и заплакала, когда узнала, что его часть переводят на фронт. «Кто же защитит меня теперь?», — думала я тогда. И вот теперь Аксель Бенц появился снова. Я помнила все, помнила и была ему благодарна, меня тронуло его предложение, но принять его я не могла.
— Ну, зачем же такие жертвы? — сказала я. — И к тому же, вы ведь меня совсем не знаете. Да и замуж мне еще рано, я сначала хочу выучиться чему-нибудь, получить профессию.
— Нет, знаю. Я видел тебя в Ковно, я видел, как ты переносишь страдания. Ты была тогда такая красивая!
— Ради бога, не надо об этом. Я вас понимаю, вы создали некий образ страдающей еврейской девочки, а потом влюбились в него. Вам хочется искупить вину своего народа самоотверженным поступком. Я очень тронута, я вам так благодарна, но давайте больше не будем говорить об этом.
Внезапно он поднялся из-за стола и заходил по комнате большими шагами в страшном возбуждении. Затем он сказал:
— Похоже, я выгляжу дураком. Прости меня. Я ухожу. Прощай! — И пошел к двери.
Я остановила его:
— Вы возвращаетесь в Кёльн?
— Да, а что?
— У меня письмо к другу во Франкфурте. Если опустите его по дороге, я буду вам очень благодарна.
— Если это для твоего дружка, — сказал он, — то я даже не возьму его в руки.
Но ему пришлось…
Аксель Бенц был художником. Когда я и в самом деле вышла замуж, он прислал мне в подарок свою прекрасную картину, пейзаж с изображением немецкой деревни. По сию пору она висит в моей иерусалимской квартире, хотя всякую связь с Акселем Бенцем я давно потеряла.
Аксель Бенц был не единственным, кто строил планы относительно меня. Зеев тоже хотел жениться на мне, но я еще не готова была принять его предложение. Я не спешила создать свою семью с кем бы то ни было. Я еще не знала, что такое любовь. Я была совершенно неопытна. Я знала только любовь к отцу и привязанность к маме. Мои чувства были недоразвиты — ведь и сама я еще была маленькой девочкой. Война на пять лет остановила мое созревание. Как я могла в эти годы думать о какой-то любви?
В начале 1946 года Манфред и Дита отправились в Америку без нас — наши американские визы уже были в пути, и Манфред с Дитой заказали для нас билеты, а мы перебрались в их квартиру во Франкфурте, захватив с собою свои жалкие пожитки. Зеев без конца говорил только о Палестине:
— Только Палестина — страна для евреев, — твердил он.
Но мы с мамой не хотели жить вдали от Манфреда и Диты, наших самых близких родственников, оставшихся в живых после этой войны, мама хотела быть поближе к внукам, которые вот-вот должны были появиться. Дискуссии с Зеевом длились часами. Принять правильное решение было нелегко, и в какой-то момент мы вдруг потеряли былую решимость присоединиться к уехавшим в Америку Манфреду и Дите, поскольку очень полюбили Зеева.
Зеев был убежденным сионистом, и его аргументы убеждали. В отличие от него, я никогда не принимала участия в молодежном сионистском движении и, таким образом, не разделяла его идеологических воззрений. Но с другой стороны, мы им очень сочувствовали. Где должен был жить еврей после всего того, что немцы сделали с нами во время войны? Совершенно ясно — мы должны были покинуть Германию, и чем скорее, тем лучше. Как может еврей оставаться в Германии? Это какое-то извращение.
Мы тщательно взвешивали, куда ехать? Самые близкие наши родственники уехали в Америку, но будет ли это решение столь же правильным и для нас? Мы знали, что Америка вышла из этой войны фактически без потерь. Без сомнения, материально для нас жизнь в Америке сложилась бы достаточно благополучно. Но мы помнили, что и в Германии до войны евреи чувствовали себя как дома и до прихода нацистов не имели оснований жаловаться на жизнь. Америка, без сомнения, относилась к евреям неплохо, но Палестина была родиной евреев. Правда, будущее этой родины было неопределенно. (Это было еще до решения ООН от ноября 1947 года о разделении границ и Израильской декларации о независимости в мае 1948 года. И, естественно, мы не могли предполагать, что еврейскому государству придется так часто вступать в схватку за свою свободу).
Несмотря на то, что Зеев больше не настаивал на нашей свадьбе, мы с мамой очень к нему привязались. Именно он окончательно убедил нас в том, что евреи должны жить в собственной стране, а не в Соединенных Штатах, хотя там сытней и богаче. Мы решили отказаться от американских виз и вернуть их. Узнав об этом, Манфред решил, что все мы сошли с ума, и я подозреваю, что он очень на нас рассердился.
Во Франкфурте тогда мы жили беспорядочной, сумасшедшей жизнью, без всякой цели и смысла. От Еврейской благотворительной организации мы получали дефицитные сигареты и другие предметы первой необходимости и то, что нам было не нужно, обменивали на черном рынке на еду и вещи. Союзники оккупировали побежденную Германию, но у нас, евреев, не было ощущения победы. Наши потери были неизмеримыми. Не удивительно, что у многих в груди горела жажда мести. Я ненавидела немцев всей душой, считая всех их бывшими эсэсовцами, но я не могла опуститься до злобы и жестокости; это был не мой путь. Особенно мне ненавистны были их заявления о невиновности немецкого народа в преступлениях против евреев. Внезапно оказалось, что они и знать не знали ни о каких лагерях, ни о каких гетто.
Впрочем, были люди, которые действительно не предполагали, что делали эсэсовцы. Во Франкфурте мне пришлось долго лечиться. Моя искалеченная нога частично поправилась, но силы к ней не вернулись еще, и я даже хромала. И от туберкулеза я тоже не избавилась полностью. Вдобавок ко всему на моей спине образовалась киста, и понадобилась срочная операция. Такая перспектива очень меня напугала: я еще не забыла, что мне пришлось вынести на операционном столе лагерного госпиталя. Но тогда там, по крайней мере, все доктора были евреями, а здесь, в Германии, и все врачи и медсестры были немцами. Признаюсь, что это меня пугало больше всего. Сама операция выглядела достаточно простой, тем не менее, ее проводили под общим наркозом. Моя мама и Зеев ожидали ее результатов снаружи, у дверей. Внезапно дверь распахнулась, и из нее выбежали медсестры. Обливаясь слезами, они громко вскрикивали одно и то же: «Нет, нет… это слишком ужасно, в это невозможно поверить. Как это могло произойти? Как?..». Мама и Зеев окаменели от ужаса. Они решили, что я скончалась на операционном столе. Зеев закричал:
— Что с ней случилось?
— Не беспокойтесь, с ней все в порядке, — ответил из операционной чей-то голос.
Тут же выяснилось, что под влиянием наркоза, находясь в полубессознательном состоянии, я начала рассказывать об ужасах концлагеря и гетто. Медсестры были так потрясены, что не смогли больше оставаться в операционной и убежали. В ней остался один хирург, который продолжал операцию и никуда не мог выйти. Позже, когда я пошла на поправку, этот хирург пришел ко мне в палату и буквально на коленях просил прощения за то, что сделали со мной немцы. Он по два раза в день приносил мне цветы. Но мне было очень тяжело принимать от него эти букеты. Я ничего не могла простить. Все, что мне надо было, это покинуть Германию как можно быстрее и больше никаких немцев не видеть. Я не могла даже представить, что когда-нибудь настанет день и мне захочется путешествовать по Германии и встречаться с немцами, которые, как Аксель Бенц или этот доктор, были неповинны в преступлениях.
Моя мама поразительно стала поправляться, она не впала в депрессию несмотря на свое глубокое горе. Вся присущая ей сила характера проявилась в ней, когда она лицом к лицу встретилась с необходимостью начать новую жизнь в возрасте, когда ей следовало бы наслаждаться, наблюдая за подрастающими внуками. Мама смотрела в будущее, не теряя мужества. Она вышла из лагеря больным человеком. У нее был туберкулез. Слепота одного глаза угрожающе прогрессировала, так что в конце концов ей вставили стеклянный, к сожалению, далеко не лучшего качества. Это очень огорчало маму, всегда очень строго относившуюся к своей внешности. До последнего дня своей жизни она следила за тем, чтобы выглядеть опрятной, ухоженной, хорошо одетой, обнаруживая прекрасный вкус без экстравагантности или преклонения перед последним криком моды.
У нас абсолютно не было ни денег, ни собственности, ни источников доходов, так что первой маминой идеей стало то, чтобы я приобрела какую-нибудь профессию. И поскольку я проявила интерес к лабораторной работе в госпитале Фельдафннга, мы решили, что я буду поступать во Франкфурте в институт имени Пауля Эрмлиха. Учиться мне было исключительно тяжело: война оборвала мое обучение на уровне начальной школы, а кроме того, было неприятно ходить на лекции немецких преподавателей и сидеть бок о бок с немецкими студентами. Обыкновенно я человек общительный, но здесь я не завела себе друзей. После занятий я немедленно возвращалась домой.
По прошествии нескольких месяцев Зеев снова завел разговор о нашем обручении. Вел он себя, как всегда, по-джентльменски. Вопрос был не в том, рада ли я общению с ним — когда он уезжал по своим делам, я очень по нему скучала, я беспокоилась за него и очень гордилась тем, что он налаживал иммиграцию евреев в Палестину. Европа была переполнена бездомными евреями, людьми, потерявшими все во время войны, теми, кому некуда было вернуться. Да и как евреи могли вернуться обратно в Польшу, Украину, Литву или в какую-нибудь другую европейскую страну, где коренное население с таким энтузиазмом помогало нацистам уничтожать евреев? Каждый квадратный сантиметр в Европе был пропитан еврейской кровью. Вся Европа представляла собою одну огромную могилу, в которой были погребены миллионы евреев; ветер еще носил наши предсмертные стоны. Только еврейские поселения в Палестине были готовы принять беженцев, но Великобритания, поддавшись давлению со стороны арабов, закрыла туда въезд. В этих обстоятельствах Зеев и его друзья — энтузиасты подпольного иммиграционного движения — не только спасали людей, возвращая им родину, но и закладывали основы будущего еврейского государства.
Я была в затруднительном положении из-за настойчивых уговоров Зеева, касающихся брака. Разумеется, я обращалась к маме:
— Что мне сказать Зееву? Что мне делать? Он слишком мне нравится, чтобы я могла обидеть его чувства, но я совершенно не знаю, готова ли я к семейной жизни. Как бы ты поступила на моем месте?
Мама слушала меня очень внимательно и долго молчала перед тем, как ответить.
— Да никак, — отвечала мама. — Если тебя, в самом деле, интересует мое мнение, я скажу, что, на мой взгляд, ты еще слишком молода для брака, — при этом она выжидательно смотрела на меня.
— И я чувствую то же самое, — соглашалась я. — Временами мне кажется, что мне всего 11–12 лет, что я еще совсем девочка. Мне надо хоть немного повзрослеть.
— Правильно, — кивала мне мама. — Тебе надо просто беззаботно пожить. Знаешь, замужество это такой груз ответственности, а ты еще хрупкая. Не будь войны, и то тебе было бы рано вступать в брак.
Но когда я попыталась спокойно объяснить это Зееву, он отказался даже слушать мои доводы. У него на все был один отет:
— Труди, я люблю тебя. Я тебя люблю и женюсь на тебе. Какой смысл откладывать это?
— Но у тебя нет никакой профессии. Мы должны накопить денег для свадьбы.
Это было самым больным местом. Зеев хотел выучиться на инженера, но не хотел оставаться в Германии, к тому же его работа занимала все время. А работу он не мог оставить. С другой стороны, он понимал мою маму: какая еврейская мать не мечтает о порядочном женихе — юристе или враче для своей дочери, словом, об обеспеченном человеке с надежным положением в обществе? Зеев признавал ценности, которых придерживалась моя мама. Он тоже хотел быть оплотом своей семьи. С другой стороны, моя мама полюбила Зеева и восхищалась им. Она все время повторяла, что он из хорошей семьи и радовалась, что я остановила свой выбор именно на нем. Но при этом она еще больше хотела, чтобы я пошла учиться и приобрела самостоятельность. Она совершенно искренне давала мне свои советы, но не принуждала меня обязательно следовать им. Она была мудрой женщиной.
Я уже давно решила, что смогу выйти замуж лишь за того человека, который, подобно мне, прошел через Холокост, иначе он никогда не поймет меня. С Зеевом мы прекрасно понимали друг друга. И чем чаще он заговаривал о браке, тем внимательнее я его слушала. Сомнения кончились тем, что 1 июня 1946 года мы обручились. Я написала об этом моему брату Манфреду, Дите и, совершенно импульсивно, Акселю Бенцу, который в ответ известил нас о своей женитьбе. Из Америки нам прислали поздравительные телеграммы; Аксель Бенц прислал написанную им картину. На ней было написано: «Для Труди Симон». Зеев, который вполне оценил этот великолепный подарок, тем не менее заметил:
— Правильно было написать: «Для Труди Биргер».
Мы поженились 30 июня 1946 года. Церемонию мы провели во дворе. Свидетелей было немного: необходимый кворум из десяти человек для произнесения молитвы и несколько друзей. В нашем доме не было евреев. Немцы наблюдали за нами из окон. Я слышала, как они говорили: «Выдают замуж такую малышку». Кто мог предполагать, что после массового истребления евреев им доведется увидеть в центре Франкфурта еврейскую пару, стоящую под хупой!
У нас с Зеевом не было ни гроша, ни новой одежды. Даже единственная пижама Зеева была вся в заплатах. Тем не менее, медовый месяц мы провели очень хорошо благодаря маме, которая преподнесла нам сюрприз — она сняла для нас на неделю номер в гостинице в Таунусе! Таунус ассоциировался в моем сознании с ужасным воспоминанием детства, когда нацистские боевики едва не расстреляли всю нашу семью. Но на этот раз мы провели с Зеевом восхитительную неделю. Хозяйка гостиницы приклеила к двери нашего номера маленькую табличку: «Добро пожаловать, герр и фрау Биргер», и я испытала прилив гордости, потому что почувствовала себя настоящей фрау Биргер.
Ежедневно мы начинали утро с того, что собирали на полянах полные корзинки земляники. Наша хозяйка подавала нам на завтрак жирную сметану, чтобы мы ели ягоды. Кроме того, в окрестных фруктовых садах поспели замечательные вишни. Мы просто объедались ими, и часто я возвращалась домой, неся за ухом вместо сережек пару вишен. Мы так долго были лишены свежих фруктов, что не могли ими наесться. Сейчас каждый год я покупаю вишни, чтобы отметить годовщину нашей свадьбы, но теперь они не имеют того божественного вкуса, как тогда.
Здоровье Зеева тоже было совершенно подорвано пребыванием в Дахау, и мама в первый год нашего брака строго следила за тем, чтобы в доме всегда в достатке были свежие овощи и фрукты. Мы продолжали жить вместе все в той же квартире, и ни разу у нас не возникло ни малейшего ощущения, что мама нам как-то мешает. Они очень сошлись с Зеевом, и она заменяла ему мать, которая погибла в Ковенском гетто. Зеев продолжал работать, а я учиться, но, если сказать честно, эти два года мы просто жили и ждали того дня, когда сможем уехать. Во Франкфурте нас ничего не держало.
Поскольку мы были женаты, вопрос, куда мы уедем, отпал сам собой. Конечно, мы едем в Палестину. Оставалось решить лишь, как мы это сделаем? Британия превратила поток иммигрантов в тонкую струйку. Англичане перехватывали суда, полные беженцев, и отправляли их в лагеря на Кипре. Поскольку Зеев был активистом движения, ему не удавалось получить разрешения на отъезд, его не отпускали, и только в ноябре 1947 года это разрешение было получено.
Если называть вещи своими именами, мы были такими же нелегальными иммигрантами. Но Еврейское агентство применило на нас новую тактику. Вместо того, чтобы, в обход британской блокады, высадить нас ночью на безлюдный пляж, как остальных беженцев из лагерей для перемещенных лиц, нам выдали документы людей, живущих в Палестине и выехавших оттуда по своим делам. Таким образом, мы представлялись людьми, просто возвращающимися домой, хотя с первого взгляда было понятно, что мы обычные беженцы. Британские чиновники были или полные дураки, или слепые.
Мы плыли на яхте, предоставленной Ротшильдами. Условия плавания нельзя было назвать роскошными, мы двигались очень медленно, но нас поддерживал высокий дух сбывающихся надежд. Во Франкфурте я страдала от астмы, но астма сразу прошла, как только я поднялась на борт. И еще, впервые за долгие годы я вдруг начала смеяться. И это тоже произошло во время нашего плавания. Мы смеялись и танцевали на палубе.
Для меня это было особенно памятное путешествие. Капитан яхты, грек, оказался настоящим дамским угодником. Думаю, он был несколько разочарован, узнав, что я замужем; тем не менее, он пригласил Зеева, мою маму и меня пересесть к нему за стол. Он позволял мне стоять целый день на капитанском мостике и одолжил свой бинокль, он показывал мне все острова на нашем пути, и я восхищалась, как маленькая девочка.
Яхта Ротшильдов вполне годилась для плавания по морю, но, разумеется, она не была океанским лайнером, так что наше путешествие длилось целых две недели. В течение всего этого времени атмосфера энтузиазма не ослабевала. Мы все были вместе, мы радовались, мы пели еврейские песни. Мы подружились с нашими попутчиками, и эта дружба длится вот уже более сорока лет.
В последний вечер нашего плаванья, когда капитан предупредил нас, что цель нашего путешествия может показаться с минуты на минуту, все собрались на палубе. Мы стояли у борта, пристально вглядываясь в темный горизонт, в надежде поймать первый огонек на побережье. Где-то ближе к середине ночи это произошло: внезапно, чуть пониже звезд, мы увидели свет. Это были фонари на улицах.
Вот так мы увидели нашу землю. Я вся дрожала от волнения. Это было как в сказке. Я так волновалась, что не могла уснуть. Всю ночь я провела на палубе, вглядываясь в эти огни, до которых мы добирались так мучительно долго. Я совершенно не боялась того, что ожидает меня здесь. Я была вся переполнена радостью и надеждой.
Мы прибыли в Хайфу 20 ноября 1947 года. Новая тактика, заключавшаяся в выдаче нам фальшивых документов, оказалась успешной, и яхта Ротшильдов оказалась первым иммиграционным судном, которое не имело с властями никаких проблем. Спустившись на берег, мы все поцеловали землю. Надо сказать, я ничего такого делать не собиралась, мало того, мне и в голову никогда бы не пришло целовать землю, но, когда мы впервые ступили на эти камни, жест этот показался нам самым естественным на свете. Затем я обняла Зеева и мою маму. Я обняла их изо всех сил — и так мы стояли, обнявшись. Здесь начиналась наша новая жизнь!