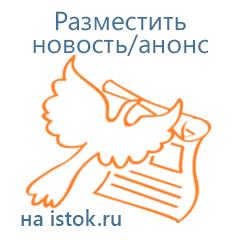ЗАВЕТ
ЗАВЕТ
IС самого начала родоначальники сионизма испытывали чувство острого недовольства жизнью в диаспоре. Их чтото постоянно раздражало в еврейском историческом опыте, как соринка в глазу. Для Теодора Герцля, Макса Нордау и Леона Пинскера этот раздражитель можно было определить одним словом: антисемитизм. Все неудачи, все трудности, с которыми сталкивался еврей в окружающем мире и в себе самом, он считал неизбежным следствием антисемитизма. Но антисемитизм был внешним явлением; он присутствовал в среде обитания еврея, а не в его душе, и нес в себе сильный отрицательный заряд. Он оказывал на еврея давление извне, побуждая обратиться к сионизму. Впрочем, после осуществления сионистской идеи антисемитизм должен был, по мнению ее авторов, навсегда исчезнуть. Им казалось, что его можно удалить так же легко, как соринку из глаза. С созданием еврейского государства, антисемитизм потеряет свою основу и отомрет. Герцль говорит об этом четко и недвусмысленно. В заключительной главе своей книги ”Еврейское государство” он пишет: ”Как только мы начнем осуществлять наш план, антисемитизм раз и навсегда исчезнет. Ибо речь идет о заключении мира”.1 Досадный промах для человека, обладавшего в целом необычайным даром предвидения.
Потому-то Герцль и не распознал более глубоких, основополагающих причин аномалии еврейской жизни. Он даже не подготовил нас к возможности сохранения такой аномалии, которая, даже если определить ее просто как внешнее давление на евреев, присутствует и после создания еврейского государства, столь блестяще предвиденного им. Поэтому нам лучше начать не с Герцля, а с философа-экзистенциалиста Жан-Поля Сартра, печального аналитика эпохи, наступившей после Катастрофы европейского еврейства. Он также признает аномалию еврейского существования, но видит в ней и некоторый положительный момент, открывающий путь к свободе. Лишенный национального самосознания еврей ошибочно полагает, что ему удастся раствориться во внешнем окружении, что это окружение примет его как равного, что он может быть и снаружи, и внутри таким, как все. Однако подлинно свободным, а еледовательно, полноценным человеком, по мнению Сартра, еврей может стать лишь в том случае, если он примет свое ненормальное состояние как неотъемлемую часть жизни, если ”знает, что он стоит обособленно, гонимый и презираемый, и что именно в этом заключается суть его существования. Он решительно отказывается от своего рационалистического оптимизма, видя, что мир раздирают безрассудные страсти... Объявив себя евреем, он присоединяется к этим страстям. Часть ценностей этого неуправляемого и непредсказуемого мира, становится его достоянием”.2
Тем самым Сартр отвергает оптимизм, определявший философскую мысль конца девятнадцатого века, и занимает более реалистические позиции. Он, так же как и Герцль, согласен с тем, что именно антисемитизм создал еврейскую проблему, проблему еврейского сепаратизма. Однако он считает, что эта изоляция может привести к положительному результату — пробудить в еврее самоуважение, которое обернется глубоким и постоянно действующим фактором еврейской жизни.
Если еврей готов принять свою изоляцию и свое отличие от окружающих народов, он чувствует себя намного лучше. Здесь проявилась замечательная психологическая и историческая глубина мысли Сартра. Но, как показывает накопленный нами опыт, Сартр так же не сумел избежать серьезных заблуждений. Последующие события опровергли не только упомянутую идею Герцля, но и его главный тезис. Сартр утверждал, что причина экзистенциальной уникальности и изоляции евреев кроется в буржуазном западном обществе. Ложные экономические и социальные ценности привели к разложению современной цивилизации и так называемого среднего класса, состоявшего из работодателей, распределителей благ и паразитов, создав тем самым благодатную почву для роста антисемитизма. Евреи будут находиться в изоляции до тех пор, пока в обществе господствует буржуазия с ее нерешенными проблемами, страхами и разочарованием; когда же произойдет революция, и к власти придут радикальные марксисты, еврейская проблема перестанет существовать, и барьеры, разделяющие евреев и неевреев, раз и навсегда рухнут.
Парадоксально, что всего через сорок пять лет после появления книги Сартра антисемитизм, принявший форму отрицания за евреями права на национальное суверенное существование, расцвел пышным цветом как раз среди радикально-революционных кругов ”новых левых”, которые считают себя последователями Сартра и других левых интеллектуалов. Причем они вовсе не отвергают национализм как таковой. Наоборот, в большинстве случаев, они оказываются решительными сторонниками арабского национализма и пробуждающихся националистических течений в Азии и Африке. Однако еврейский национализм для них неприемлем, что безусловно можно расценить как проявление нацистского мышления, пятно на совести мирового сообщества. Но почему эта логически никак не обоснованная дискриминация по отношению к евреям (иначе ее и не назовешь) зародилась в тех самых кругах, которые поставили перед собой задачу уничтожить старый буржуазный порядок и создать бесклассовый марксистский рай?
Этот вопрос приобретает еще большую остроту, если вспомнить, что даже в Советском Союзе, где, если верить марксистской теории, антисемитизм уже давно должен был отмереть, условия жизни евреев становятся все более нетерпимыми. Евреи оказались фактически в фокусе нового революционного брожения; они не могут врасти в социалистическое общество, да и само это общество уже не хочет их ассимилировать. За годы, прошедшие после Шестидневной войны, среди евреев СССР наблюдалось поразительно быстрое возрождение национального и даже национальнорелигиозного самосознания. Это тем более удивительно, что речь идет о поколении, полностью отчужденном от своего еврейского исторического наследия.
II
Так что же не заметили Герцль и Сартр? В чем они ошиблись? Все дело, по-видимому, в мистическом аспекте данного вопроса. Они оценивали антисемитизм с социологической и политической точек зрения, считая, что решение можно найти на простой рациональной основе. Они не верили, что еврейская история коренным образом отличается от истории других народов, что она управляется какимито особыми законами, отличными от законов диалектического материализма и национально-освободительных движений XVIII—XIX веков. Они видели, что еврей изолирован, что его положение ненормально, и поэтому стремились изменить его статус в мировом сообществе. Герцль считал, что лучшее средство — национальное самоопределение по образцу Италии или Греции; Сартр обратился к мировому социализму. Оба они не поняли, что антисемитизм — это продукт духовного напряжения, результат активного противодействия еврейской идее спасения мира. ”Мир ненавидит Израиль за его особое призвание”,3 — говорит Жак Маритэн.
,’Израиль занимает особое место в мире. Он формирует его основу, приводит в движение, постоянно будоражит и толкает его на перемены. Он, как инородное тело, закваска в тесте, не дает народам ни минуты покоя, выводит их из дремотного застоя; он источник мятежности и недовольства, ибо не может быть людям покоя, пока у них нет Б-га; он стимулирует движение истории”.4
С этой точки зрения антисемитизм, проявляющийся в яростном и категорическом отрицании роли евреев в современном мире, представляет собой своеобразную реакцию на их таинственную неповторимость.5 С тех же позиций можно оценить и филосемитизм таких людей, как Маритэн. Во всяком случае, к евреям никто не относится равнодушно. Но дело не только в острой и неподдающейся рациональному объяснению реакции остального мира на еврейское своеобразие. Интересно также отношение еврея к самому себе. Он вполне осознает свою особую роль в мире, как бы глубоко она ни пряталась в его подсознании. Вот в чем источник духовного напряжения, который не заметили ни Герцль, ни Сартр. Они не видели, что корень мятежности сидит в самом еврее, что еврей несет в себе бремя своеобразия, которое является следствием не антисемитизма, а его собственного внутреннего побуждения, некоего положительного импульса, задающего темп еврейской нетории. Миллионы евреев были сожжены в пламени костров и крематориев. И хотя большинство историков признают только это физическое пламя, есть еще один неугасимый огонь, который, по словам пророка, формирует жизнь евреев и их душу.
Поразительно то равнодушие, с которым два великих человека — Герцль и Сартр — относились к религиозному началу в еврейской истории. Герцль, как известно, заявил, что, когда возникнет еврейское государство, раввины останутся в своих синагогах. Еврейская проблема, по его еловам, носит исключительно светский характер, а потому и решаться должна в секулярной плоскости. Сартр категорически отрицал право евреев на религиозную и национальную общность. ”У евреев, — говорил он, остались лишь церемониальные и внешние связи с их религией”.
”Сынов Израиля нельзя объединить ни их прошлым, ни их религией, ни их землей. Если и есть между ними какаято общность, в силу которой все они называются евреями, то она состоит в их особом положении в обществе, для которого они все евреи”.6
Главная заслуга Сартра состоит в том, что он открыл важную особенность евреев: они могут жить достойно, только если мирятся со своим особым положением: если добровольно возлагают на себя бремя своей исключительности, а не пытаются от него избавиться или игнорировать его. Но по мнению Сартра, даже тот, кто осознает себя евреем, делает это лишь в силу необходимости. Он подспудно подводит нас к мысли, что для евреев и для всего остального мира было бы лучше, если эти различия исчезнут, и евреи станут такими, как все. Однако с этим не согласны евреи, обладающие развитым чувством национального самосознания. Одним из них был американский еврейский писатель Людвиг Льюисон. Мы уже говорили о том, как социальное давление и обнаруженный им в Америке скрытый антисемитизм побудили его обратиться к сионизму. Но в его истории есть и другая сторона. Размышляя о себе и о судьбе своего народа, Льюисон понял, наконец, в чем причина его внутреннего беспокойства. Дело вовсе не в том, что мир отвергает его; наоборот, это он не хочет принимать окружающий мир, ибо тот не отвечает его духовным устремлениям:
”Я пришел тогда к выводу, что мое горькое разочарование жизнью вызвано вовсе не сходством с моими американскими друзьями, а моим особым отличием от них... Наша письменная и устная традиция возникла еще на заре истории человечества; она выражает нашу вечную суть, которая, по-прежнему, присутствует в нас”.7
Поиски душевной гармонии привели его к иудаизму и сионизму. Он почувствовал, что ему как еврею необходимо освободиться от ложных ценностей окружающего его общества. Сартр назвал бы это реакцией еврея, в котором пробудилось национальное самосознание; однако на Льюисона подействовала не столько внешняя, сколько некая внутренняя сила, заставившая его признать, что он принадлежит к народу со своей собственной историей, собственными традициями и собственной родиной. Можно добавить также, что случай Льюисона не был уникальным, хотя и проявился необычайно ярко; такой же духовный путь проделали за последние несколько десятилетий множество ассимилированных евреев Запада, увидевших в своем еврействе важное для себя приобретение.
III
Сартр сталкивался только с ассимилированными евреями Франции. Поэтому нет ничего удивительного в том, что он не разглядел тесных уз, связывающих народ Израиля с его землей, не учел этот фактор в своих выводах. Но ведь иначе невозможно понять современного еврея. Нельзя объяснить солидарность евреев диаспоры со своими братьями в Эрец-Исраэль и с самой землей, их постоянную готовность идти на жертвы ради них, как материальные, так и нематериальные. Невозможно понять чувство глубокой сопричастности, охватывающее еврея, когда он возвращается на свою землю, даже если он прежде никогда не видел ее и все знания о ней черпал из религиозной и литературной традиции. Тем не менее, земля эта манит его к себе. Многие неверующие евреи, оказавшиеся у Западной стены в разгар Шестидневной войны, обнаружили в себе такие религиозные чувства, о которых прежде и не подозревали. Именно так проявилось их еврейское самосознание. Нельзя винить Сартра в неумении понять этот феномен. Даже Герцль был немало удивлен, когда во время шестого сионистского конгресса, состоявшегося в 1903 году, делегаты проявили неожиданно страстную любовь к Сиону. Британское правительство предложило тогда выделить для еврейского национального очага часть территории Уганды. Эта идея была решительно отвергнута ”сионистами Сиона”, для которых голые камни Святой земли были несравненно дороже хлеба чужих краев. Герцль считал, что предложение англичан заслуживает серьезного рассмотрения; ведь оно вполне могло удовлетворить нормальное стремление всякого народа к национальной независимости. Но еврейскую историю, по всей видимости, никак нельзя было считать нормальной, и еврейский национализм тоже не был нормальным национализмом.
Американские ирландцы вряд ли вернутся когда-нибудь в Ирландию, в то время как многие евреи, где бы они ни жили — в свободных или угнетенных странах, — обязательно возвратятся в Израиль. Большинство из них забыли святой язык Торы и давно говорят на языках окружающих их народов, но их любовь к Сиону не ослабевает. Для многих это загадка, но в наше время она приобрела удивительно простые и понятные формы. С этой точки зрения сионизм представляет уникальное явление; он освобождает душу и тело еврея и одновременно — весь мир. Пророческое речение ”Ибо из Сиона выйдет Закон, и слово Г-спода из Иерусалима” (Йешаягу 2:3) перестало быть словесной риторикой и превратилось в саму суть сионизма.
Прогрессивные деятели Запада проявляют вполне понятное недоверие к модным идеям, сочетающим в себе элементы религии и национализма. Суть, однако, в том, что движущая сила сионизма, независимо от воли самих сторонников этого движения, коренным образом отличается от движущих сил других националистических течений; и уж тем более сионизм не похож на те извращенные националистические формы, от которых так страдала Европа в нашем столетии. Завет — вот что придает сионизму смысл. Завет лежит в основе моральных устремлений евреев, их стремления к самораскрытию и, в конечном счете, установлению Б-жьего царства на земле. Скептики могут здесь улыбнуться. Но та страсть, о которой мы здесь говорим, слишком реальна и выдержала чересчур долгое испытание временем, проявив себя в таких ярких формах, которые невозможно игнорировать.
Политические теории девятнадцатого века уже не в моде. Поскольку сионизм когда-то походил на них, историки и идеологи относятся к нему теперь без должного уважения.14 Ведь ни коммунизм, ни либерализм, на которые возлагались столь большие надежды в начале нынешнего столетия, не оправдали себя. Можно ли считать, что сионизм стоит в одном ряду с ними, что он лишь одна схоластическая программа спасения человечества, только гораздо более узкая в своем практическом аспекте из-за сугубо национальной ограниченности и внешне менее убедительная, поскольку опирается на причудливо-экзотическую библейскую символику? Нет, на самом деле сионизм — это нечто большее и в то же время меньшее, чем политическая идеология. Это высшая цель, но отличная от ”гарантированной” и ”неизбежной” победы пролетариата. Она опирается на исторический опыт. Евреи не рассматривали сионизм как схему и не стремились навязать ее историческому процессу; для многих из них это сама история, от которой они безуспешно пытаются скрыться. ”Куда скроюсь от лица Твоего?” — вопрошает псалмист (Тегилим 139:7) Завет — это не пустое воображение, он беспощадно эмпиричен; он — приказ, он — всепоглощающая любовь, которой невозможно противостоять. Пророк Гошея говорит, что Б-г будет преследовать Израиль, как разъяренный лев, и они, дрожащие, будут идти из Египта и Ассирии, чтобы вернуться в свой дом — Сион, и будут они скованы неразрывными цепями любви (Гошея 11:4, 10, 11). Только с помощью этих величественно-диалектических образов можно точно определить современный этап развития сионизма.