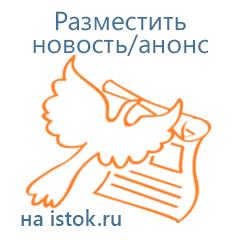КАФКА
КАФКА
Гений безумного мира
Франц Кафка — прощальный призрак XX столетия.
Синтия Озик
Кафка — яркий пример «посмертной славы»; вопреки здравому смыслу, он сначала умер, а затем появился на свет. Кафка мало что успел опубликовать при жизни. Пожираемый душевной болезнью и чахоткой, этот юноша с тоскливо-безумными глазами умер безвестным и неприз- нанным. Он так и не завершил все свои три романа — о путешествии в запредельную Америку, о поисках недостижимого Замка, о ходе немыслимого процесса — анонимного Суда над одиноким человеком. Кафка сумел «разрушить» XIX век с его устоявшейся художественной моностилистикой так же, как это сделали Маркс, Фрейд, Эйнштейн своими кардинальными идеями, идущими вразрез с картинами мира и образом культуры эпохи Нового времени. Все они несли в XX столетие одно лишь «откровение» — мир совсем не таков, каким выглядит. Нельзя доверять чувствам, эмпирическому восприятию времени и пространства, Добра и Зла, закона и справедливости. Это был конец старого порядка, крах былого мироустройства.
Кафка предвидел безумие XX столетия и невыразимую беспомощность человека в этом мире. Плоды воображения писателя стали сильнее фактов истории официальных документов, мемуаров, свидетельств очевидцев. Он писал по озарению. Его тексты, воспринимающиеся современниками как жуткая комичность, веселая сатира на тогдашние нравы Австро-Венгерской империи, для нас наполнены безысходностью и ужасами тоталитаризма — тяжким опытом минувшего столетия.
Как Гойя предвидел боль и безумие Нового времени, где нередко правил бал «сон разума», так Кафка сумел предчувствовать через бездну своей болезненной души безумие XX века. Недаром философ Теодор Адорно говорил, что в его прозе нет помешательства, в каждой его фразе запечатлен отчеканивший ее могучий дух; но при этом каждая фраза Кафки была извлечена им из сферы безумия.
Зрелище унылой и монотонной жизни отталкивало его, и тогда Кафка уходил в нишу своего болезненного творчества, в воображение, создавая иной мир, совершенно не похожий на реальный. Но он не способен был уйти от себя самого, от чувства тревоги, тоски и страха, которое нередко им овладевало. В дневниках Кафка пишет: «Для меня эта ужасная двойная жизнь, из которой, возможно, есть только один выход — безумие».
В его текстах ощущается некий опыт, притягивающий и отталкивающий, невыразимый средствами существующего языка. Но, как говорит психоанализ, нет ничего тайного, что не стало бы явным. Когда человек стремится что-то скрыть, он всегда проговаривается — в своем творчестве, в письмах, в беседе. Именно с Кафки подлинное искусство XX века двинулось против времени, ломая единый культурный стиль эпохи, внося новые правила и иную стилистику. Кафка предвидел абсурдность тоталитаризма так же, как Пруст обнажил предельный психологизм.
XX век — это эпоха слов, которые во многом устранили разницу между добром и злом, это время действий, в основе которых абсурд и бессмысленность. Тексты Кафки — что это? Абсурд реального мира или же реальность абсурда?! У него сон и явь сливаются воедино. Его пространство условно, в нем нет системы измерения, господствует лишь случайность. Человек Кафка несчастен. Его что-то мучает. Его спутники — чувство страха и необъяснимой вины. Кафку невозможно понять до конца. Он символичен и метафоричен. Каждый из нас находит свой смысл между строк. Читать Кафку — означает будить символы, ибо благодаря соединению повседневной реальности и мистической неопределенности писатель достигает высшей степени символизации и многозначности.
Здесь и сладчайший соблазн страдания и отверженности, переплетающийся с тягостными мучениями 60лезненного одинокого человека. Здесь и страх смерти как страх недосягаемости вечного существования, которое, похоже, отождествлялось Кафкой с материнским абсолютным признанием и с материнской защищенностью от вселенского хаоса.
Франц Кафка — центральная и самая загадочная фигура литературы XX века. Этот тихий, закомплексованный, страдающий от своей худобы и высокого роста еврейский юноша из предместий Праги начал писать полубезумные рассказы, когда европейская цивилизация процветала, а на улицах городов царило спокойствие. Это благополучное и светлое жизнеустройство не было готово к восприятию головокружительных, абсурдных и безнадежных миров, которые предчувствовал Кафка.
Постоянно во всем сомневающийся, бросающийся из омута отчаяния и тоски в грезы литературного творчества, делающий предложение своей любимой «на расстоянии» Фелице Бауэр и тут же отказывающийся от него, Кафка сам не верил в свою гениальность. Он писал лишь потому, что не мог не писать. Из-под его пера выходили письма, рассказы, дневники. Но, поразительное дело, в итоге ему удалось невозможное. В его творчестве все объяснимо, все невероятно и вместе с тем обыденно, само собой разумеющееся.
Его внутренний мир, чудовищный и безрадостный, как и его болезненное состояние, во многом определили духовный тонус и особенности его произведений. Кафка внес в художественно-интеллектуальную стилистику эпохи острое ощущение трагизма жизни, ее неустойчивости, враждебности человеку. Трагизм мироощущения перерастал у него в ужас перед бытием вообще.
Проза Кафки — это неправдоподобная, изломанная, дышащая жутью и безнадежностью картина мира. Теодор Адорно полагает, что мощь Кафки — это мощь разрушения. Кафка претворяет в искусство «сор действительности». Он не изображает картину надвигающегося общества непосредственно, а монтирует ее из отходов, которые формирующееся будущее выбрасывает из «проходящего настоящего». Кафка, как и всякий большой художник, был пророком. Видимо, еще и поэтому до конца Кафку понять невозможно. До конца и он себя не понимал. Иначе к чему эта его фраза из дневников: «Люди меня едва ли когда обманывали, а письма — всегда, причем не чужие, а собственные».
Друг, душеприказчик и биограф великого писателя Макс Брод усматривал в мироощущении Кафки два «полюса притяжения» — «болезнь» и «здоровье». Маниакальная требовательность к себе, совестливость, комплекс вины перед семьей, постоянная неуверенность в своем литературном призвании и, как результат, неврастения, болезненное чувство одиночества и близость к помешательству — все это «болезненная» ипостась личности и творчества Кафки. Таким он и предстает на страницах своих запретных дневников. Но был и «другой» Кафка — мягкий, доверчивый, стремящийся к общению. Как невозможно до конца понять творчество Кафки, так невозможно до конца осознать величие образа — противоречивого и неоднозначного — писателя, художественный мир которого коренным образом изменил представления о человеческих взаимоотношениях. Огромное количество литературы о Кафке — самое убедительное свидетельство таинственности и загадочности его образа и творчества.
Семья
Франц Кафка родился в Праге 3 июля 1883 года. Тогдашняя Австро-Венгерская империя, управляемая Габсбургами, была сплавом нескольких национальных анклавов. Прага последних десятилетий XIX столетия превратилась в город быстрых перемен и, соответственно, обострившихся конфликтов. Три народа — немцы, чехи и евреи — существовали, периодически враждуя и заключая перемирие.
Пражские евреи мало походили на своих собратьев по вере с востока. К концу XIX века они были полностью ассимилированы, традиции и ритуалы своей религии чтили лишь по привычке. Закон давно уже освободил евреев Праги и интегрировал их в жизнь большого города — они становились предпринимателями, адвокатами, журналистами. Но общественное мнение менялось гораздо медленнее и многие их по-прежнему сторонились.
Впервые антиеврейские манифестации развернулись здесь в 1848 году, когда евреям предоставили гражданские права. Подобные вспышки насилия на протяжении второй половины XIX века наблюдались здесь неоднократно. Марк Твен, работавший в конце XIX века корреспондентом в Вене, так описывал взрыв антиеврейского насилия в Праге: «Было три или четыре дня свирепых беспорядков... евреев и немцев разоряли и грабили, разрушали их жилища; в других богемских городках вспыхивали бунты — в некоторых случаях зачинателями были немцы, в других — чехи, но во всех случаях на костер шел еврей, какую бы сторону он ни принимал».
Герман, отец Франца Кафки, сначала жил в гетто. Но ко времени появления на свет будущего писателя гетто исчезло, а старый еврейский квартал превратился в Пятый округ Праги — Иосифштадт. В 1881 году Герман Кафка открыл магазин модных вещей и быстро преуспел. В 1882 году он женился на Юлии Леки, девушке из еврейской семьи богатых суконщиков. Сам Кафка всегда противопоставлял две семейные линии: с одной стороны, семейство Кафки, отмеченное «силой, здоровьем, хорошим аппетитом, знанием людей, определенным благородством»; с другой — материнская линия семейства Леки, которое он наделяет такими качествами, как «упорство, чувство справедливоети, неуспокоенность». Род Кафки отличался немалым ростом. Рассказывали, что дед Якоб Кафка, мясник, мог поднять зубами мешок с мукой. Даже женщины были рослыми. Но сам Франц стыдился своего высокого роста, из-за которого чувствовал себя не сильным, а хилым, неуклюжим и смешным.
В «Письме к отцу», написанном в 1919 году, Кафка рассказывал о своих сложных отношениях с семьей. Это произведение Кафки переросло значение автобиографического документа и характеризовало его отношение к среде, из которой он вышел, и которая вызывала у него чувство неприязни и, вместе с тем, тоскливое ощущение кровного с ней родства.
Со страниц «Письма» встает образ отца — жестокого, деспотичного, малокультурного, для которого успех в делах определял все. Кафка пишет: «Ты никогда по-настоящему не побил меня. Но то, как ты кричал, как наливалось кровью твое лицо, как торопливо ты отстегивал подтяжки и вешал их наготове на спинку стула, — все это было для меня даже хуже. Вероятно, такое чувство бывает у того, кого должны повесить. Если его действительно повесят, он умрет, и все кончится. А если ему придется пережить все приготовления к казни, и только тогда, когда перед его лицом уже будет висеть петля, он узнает, что помилован, это заставит его страдать всю жизнь. Когда же я по твоей милости был пощажен, это лишь рождало чувство большой вины».
Уже в детстве Франц все воспринимал так, словно у него были полностью оголены нервы. Деспотизм отца подавлял его. «Ты требовал от меня хотя бы понимания и сочувствия. Вместо этого я с давних пор прятался от тебя — в свою комнату, в книги, в сумасбродные идеи, у полоумных друзей. Я никогда не говорил с тобой откровенно, в храм к тебе не ходил».
«Письмо» завершилось четкой, логически выверенной концовкой: «Разумеется, в действительности вещи не могут так последовательно вытекать одна из другой, как доказательства в моем письме, жизнь сложнее пасьянса; но с теми поправками, которые вытекают из этого возражения, — поправками, которые я не могу и не хочу вносить каждую в отдельности, — в этом письме все же, по моему мнению, достигнуто нечто столь близкое к истине, что оно в состоянии немного успокоить нас обоих и облегчить нам жизнь и смерть».
Однако отец письмо это так и не прочитал.
Кафка искал у матери защиты от грубого и необузданного отца. В «Дневнике» за 1911 год он пишет: «Уже довольно давно я сетую на то, что постоянно болен, никогда, впрочем, не имея конкретной болезни, которая заставила бы меня лечь в постель. Это желание, конечно, по большей части проистекает из того факта, что я знаю, в какой мере моя мать способна утешить, когда, например, она выходит из освещенной гостиной, чтобы войти в полумрак комнаты, отведенной для больного». Но знал ли он детскую нежность? Ведь далее в «Дневнике» Кафка пишет: «Вчера я думал о том, что не всегда любил свою мать так, как она того заслуживала, и так, как я мог бы это делать...»
Истоки одиночества Кафки — в семье, в его детстве и юности. Он ненавидит семейный очаг, но остается его узником, как узником Праги. Лишь в 31 год у него появится комната вдали от родителей, к которым уже вскоре он вновь вернется из-за своей болезни.
Ребенком будущий писатель почти весь день проводил без родителей, только со слугами. Наверное, то была его первая школа одиночества. В сентябре 1889 года, когда мальчику исполнилось шесть, его отвели в начальную немецкую школу. В десять лет он поступил в лицей. Именно в последние годы учебы в лицее он начал писать, однако из его первых литературных опытов ничего не сохранилось.
Юношей он быстро растет — метр восемьдесят, метр восемьдесят два. Он стеснялся своего высокого роста, ходил, сгорбившись, и не решался смотреть в зеркало, чувствуя себя почти уродом. Впрочем, на фотографиях той поры он выглядит красивым черноволосым юно- шей с печальными глазами.
Замкнутость на самом себе, комплекс неполноценности были поисками несчастья. Одной из устойчивых черт его судьбы была определенная склонность к саморазрушению. В дневниках за 15 октября 1913 года запись: «Сегодня после обеда в полусне: в конце концов страдание должно взорвать мою голову. И именно в висках. Представив себе эту картину, я увидел огнестрельную рану, края которой острыми выступами загнуты кверху, как в грубо вскрытой жестяной банке».
Кафка слаб перед своим отцом, перед семейным, почти ненавистным, окружением, перед жизнью. Он был плохо вооружен для борьбы, обречен на поражение и жил, прекрасно понимая это. Но, проходя через ненависть, он стремился к любви. Ненавидя отца, он вместе с тем любил его, он восхищался его энергией и предприимчивостью. Так, через воскрешение эдиповских тем были созданы все условия для появления невроза.
Видимо, наиболее парализующее воздействие отца, устрашающего и почитаемого, сказалось на его сексуальности. В дневниках Кафка пишет: «Юношей я был так неискушен и равнодушен в сексуальном плане (и очень долго оставался бы таким, если бы меня насильно не толкнули в область сексуального), как сегодня, скажем, к теории относительности». Однажды, когда Францу было лет шестнадцать, отец посоветовал ему посещать проституток, чем невероятно травмировал сына. Но позднее Кафка так и делал.
В 1913 году он пережил свой первый чувственный опыт с женщиной — продавщицей из магазина готового платья. Франц, познакомившись с девицей, повел ее в гостиницу. Вначале он испытывал жуткий страх, но «когда мы под утро возвращались домой, я был счастлив, но счастье это состояло лишь в том, что моя вечно скулящая плоть наконец-то обрела покой, а самое большое счастье было в том, что все не оказалось еще более омерзительным, еще более грязным».
Запретный дневник
Далека ли печаль от счастья, если она сильна.
Кафка
Силы зла слегка облизывали проходы, заранее радуясь, что ворвутся через них.
Кафка
После окончания юридического факультета Пражского университета Кафка становится мелким служащим в частном страховом обществе. Несколько позднее он поступает в контору по страхованию несчастных случаев, где занимается расследованием дел, связанных с производственным травматизмом. За время службы в этих учреждениях он насмотрелся на разнообразные проявления человеческого горя, и не раз ему открывалась безысходность людских бед.
Его друг Макс Брод, с которым Кафка познакомился и сблизился в годы учебы в университете, подталкивал Франца больше писать и издаваться. Но юноша не верит в себя, он боится с головой уйти в творчество, этот страх, это беспокойство постоянно терзают его. Но в конце 1909 года Кафка начинает, возможно, главное дело своей жизни — «Дневники». Они составляют собрание из 13 толстых тетрадей большого формата.
Его дневники пестрят вариантами и фрагментами незаконченных рассказов, литературными замыслами, записями сновидений, размышлениями о литературе, искусстве; здесь же копии отправленных писем, главы из будущих романов. Страницы дневников Кафки — это его тщательно оберегаемое пространство 60лезненной жизни, где беспредельное одиночество переплетается со страстным желанием общения, страх перед жизнью — с объяснением в любви. И всегда — непрестанная трагическая борьба с самим собой и с окружающим миром.
Макс Брод утверждает, что Кафка понимал творчество как своего рода молитву. Такой молитвой и стали его знаменитые дневники, где сами записи порой принимают очертания молитвы. Иногда мольба его адресуется Богу, чаще — вечности: «Прими меня в свои объятия, в них — глубина, прими меня в глубину, не хочешь сейчас — пусть позже. Возьми меня, возьми меня — сплетение глупости и боли». Это — исповедь, которую Кафка шепчет на ухо своему духовнику, — но шепот его уходит в пустоту, в бездну, откуда нет возврата и ответа, и вряд ли эта исповедь-молитва облегчала его душу. Напротив, выплескивая на потаенные страницы свои сомнения, боли, терзания, он лишь усугублял свои раны. Самоанализ почти всегда на страницах дневников выливается в болезненное самокопание, близкое к разрушению души и личности.
В декабре 1913 года Кафка, прослушав доклад философа Бергмана «Моисей и современность», записывает в дневник: «Между свободой и рабством пересекаются поистине страшные пути, для предстоящего нет проводника, пройденное мгновенно погружается во тьму... Я там. Уйти я не могу. Мне не на что жаловаться. Я не страдаю чрезмерно... страдания мои значительно меньше тех страданий, которые, возможно, мне суждены».
В своем дневнике он нередко описывал состояние, близкое к безумию. «Вчера вечером, уже предвкушая сон, откинул одеяло, лег и вдруг явственно ощутил все свои способности, словно держал их в руках; они распирали мне грудь, воспламеняли голову... Я все время представлял себе фуражку с козырьком, которую я, чтобы защититься, изо всех сил натягиваю на лоб. Как много я вчера потерял, как тяжело стучала кровь в стесненной голове, — обладать такими способностями и держаться только силами, которые необходимы просто для существования и попусту растрачиваются».
Ему вдруг становилось буквально противным собственное тело. «Бесспорно, что главным препятствием к успеху являлось мое физическое состояние. С таким телом ничего не добьешься. Я должен буду свыкнуться с его постоянной несостоятельностью. Последние ночи, полные кошмарных сновидений, но длящиеся лишь минуты сна, меня сегодня утром настолько выбили из колеи, что, кроме лба своего, я ничего не ощущал... Мое тело слишком длинно при его слабости, в нем нет ни капли жира для создания благословенного тела, для сохранения внутреннего огня... Как может это слабое сердце, так часто болевшее в последнее время, гнать кровь через всю длину этих ног? Только до колен — и то ему хватало бы работы, а в холодные голени кровь толкается уже только со старческим слабосилием... В этом теле слишком мало сил для того, чего я хочу достичь».
Записки в дневнике (май 1913 года): «Страшная ненадежность моего внутреннего бытия». «Беспрерывное представление о широком кухонном ноже, быстро и с механической ритмичностью вонзающемся в меня сбоку и срезающим тончайшие поперечные полосы, которые при быстрой работе отскакивают в стороны почти свернутыми в трубку». Июнь того же года: «Я не способен выносить натиска моей собственной жизни, бессонницы, близости безумия». В сентябре 1915 года — вновь мысли о самоубийстве: «Кажется, самое подходящее место для того, чтобы вонзить нож, — между горлом и подбородком. Поднимешь подбородок и вонзишь нож в напряженные мышцы. Но это только кажется, будто оно самое подходящее. Надеешься увидеть, как великолепно хлынет кровь и порвется сплетение сухожилий и сомнений, будто в ножке жареной индейки».
Дневник побуждал Кафку к терзаниям. Недоверие к самому себе росло, исчезали остатки воли и энергии. Другая опасность — не менее серьезная. Дневник в основном предназначался для того, чтобы дать толчок его литературному творчеству, обратиться к действительности. Но этот замысел потерпел крах, поскольку вместо встречи с внешним миром глазам его открывалось зрелище самого себя. Из-за этого Кафка порой приходил в отчаяние: «Сегодня после полудня боль из-за моего одиночества охватила меня так пронзительно, что я отметил: таким путем растрачивается сила, которую я обретаю благодаря писанию и которая предназначалась мною, во всяком случае, совсем не для этого».
Но он не сомневался в своем призвании. Он чувствовал себя на пороге божественного освобождения, которым для него могло бы стать началом сочинительства. «Бесспорно, все, что я заранее, даже ясно ощущая, придумываю слово за словом или придумываю лишь приблизительно, но в четких словах за письменным столом, при попытке перенести их на бумагу, становится сухим, искаженным, застывшим, мешающим всему остальному, робким, а главное — не цельным, хотя ничего из первоначального замысла не забыто». Изобилие возникающих в его сознании мыслей и образов было столь велико, что ему приходилось выбирать. Но выбор в конечном итоге делался вслепую. Отсюда — изнурительное чередование надежды и отчаяния. Подчас он описывал свое литературное бесплодие как половое бессилие.
Однажды весной 1912 года в Прагу приехала группа еврейских артистов из Лемберга (Львова), чтобы сыграть пьесы на идиш. И вот Кафка оказался перед маленькой группой людей, которых многие презирали, которые безмятежно жили своим иудаизмом и были страстно преданы творчеству. И он вдруг ощутил чувство принадлежности к ним, о котором ранее не подозревал. Для него открыть иудаизм означало осознать себя наследником древней традиции и богатой истории, почувствовать себя причастным к этому устоявшемуся образу жизни, разделить горести и радости еврейства. Кафка начал интересоваться историей евреев. Он читал «Популярную историю евреев» Генриха Гретца и другую литературу.
Вскоре к нему приходит любовь. В августе 1912 года у родителей Макса Брода он впервые встречает Фелицу Бауэр. Ей было двадцать пять лет, она была еврейкой, изучала древнееврейский язык и разделяла идеи сионизма. Между ними завязалась переписка, поскольку вскоре Фелица возвратилась в Берлин.
Кафка был явно ею увлечен. Но любил он ее на расстоянии, в письмах. Она для него была далекая воображаемая возлюбленная, словно тень на горизонте. Кафка, скорее, любил ту любовь, которую испытывал к этой тени. Переписка то вспыхивала, то затихала. И вдруг в июне 1913 года он попросил ее руки. Девушка согласилась сразу и без колебаний. Но Кафка вдруг осознал, что этот брак ему совершенно не нужен. 21 июня в своем дневнике он записывает: «Страх перед соединением, слиянием. После этого я никогда не смогу быть один». Его тяга к одиночеству взяла верх. Позднее, 14 августа, в дневнике: «Я люблю ее, насколько способен, но любовь задыхается под погребающим ее страхом и самообвинениями». Он просил Фелицу не спешить, перечислял свои недостатки, словно бы стремился совсем оторвать ее от себя.
Кафка дважды, в мае 1914 года и в июле 1917, был с ней помолвлен, но брак они так и не заключили. Вот одно из последних писем Кафки к девушке: «То, что во мне борются двое, Ты знаешь. Что лучшее из этих двух принадлежит Тебе, в этом я не сомневаюсь, особенно в последние дни. О ходе борьбы, я в течение пяти лет извещал Тебя — большей частью к твоей муке — словами и молчанием, и тем и другим вместе. Если Ты спросишь меня, всегда ли это было правдиво, я смогу лишь ответить, что ни перед одним человеком я с такой силой не избегал сознательной лжи или — чтобы быть еще больше точным — не избегал с большей силой, чем перед Тобой. К маскировке я иной раз прибегал, ко лжи — очень мало... Я лживый человек, иначе я не могу сохранять равновесие, мой челн очень неустойчив... Ты мой суд челове- ческий. Двое, что борются во мне, или, вернее, из чьей борьбы я весь, вплоть до последней истерзанной частички моего существа, состою, — это добрый и злой; временами они меняют свои маски, и это еще больше запутывает запутанную борьбу; но в конце концов... я все же мог надеяться, что... наконец обрету Тебя... Втайне я считаю, что моя болезнь вовсе не туберкулез, а общее мое банкротство. Я думал, что можно будет еще держаться, но держаться больше нельзя. Кровь исходит не из легких, а из раны, нанесенной обычным или решающим ударом одного из борцов.
Этот борец получил теперь поддержку — туберкулез, чего теперь хочет другой? Разве борьба не достигла блистательного конца? Что иное остается другому — слабому, усталому и в таком состоянии почти невидимому Тебе, — как не прислониться ... к Твоему плечу и вместе с Тобой, самой невинностью чистого человека, ошеломленно и безнадежно воззриться на взрослого мужчину, который, почувствовав себя обладателем любви человечества или предназначенной ему наместницы, пускается на свои отвратительные подлости. Это искажение моих стремлений, которые сами по себе уже есть искажение».
«Оставь надежду всяк сюда входящий» — начертано на вратах ада. Считается, что это лишь обращение к страху предстоящих страданий. Но отторжение надежды уже само по себе есть несчастье. Тибетцы говорят: «Теряешь жену — обретаешь свободу, теряешь здоровье — обретаешь удовольствие, теряешь надежду — теряешь все!» Отсутствие надежды нередко порождает невроз. Наверное, так было с помолвками Кафки. Все его отношения строились в надежде на близость. Надежда оказывалась важнее действительной близости, при этом всегда оставалась возможность отступления. Но душа его все более погружалась в бездну отчаяния, «в громкозвучные трубы пустоты» (запись в дневнике от 4 августа 1917 года).
Напряженно-болезненное творчество
В 30-е годы Бертольт Брехт писал, что Кафка, предвидя приближение кошмаров фашизма, с великолепной фантазией описал будущие концлагеря, будущее бесправие, будущую абсолютизацию государственного аппарата, глухую, управляемую непостижимыми силами жизнь одиночек. Действительно, в произведениях Кафки отчетливо показана беспомощность человека в XX веке. В его романах «Процесс» и «Замок» запечатлена трагичность человеческой беспомощности. В «Процессе» человек оказывается жертвой сил, преследующих его. В «Замке» те же, нелепые, но всемогущие силы препятствуют человеку в его страстном желании зажить обычной, простой человеческой жизнью.
Именно в «Процессе» Кафка, пожалуй, с наибольшей полнотой и масштабностью отразил убеждение в беспомощности человека перед всевластием неведомых, стоящих над ним сил, и мысль о фатальной виновности человека. Главный герой Йозеф К. после долгих хождений по канцеляриям суда, где его ошеломлял вид обвиняемых, подавленных собственной судьбой настолько, что они теряли всякое представление о человеческом достоинстве и правах, сам начинает сомневаться в собственной невиновности и начинает искать в своей жизни проступки, которые могли бы объяснить, почему и в чем его обвиняют. Через весь роман проходит мысль о бессмысленности сопротивления тем зловещим силам, что господствуют над человеком. Безнадежность парализует его волю к сопротивлению. Образ судейской машины, перемоловшей Йозефа К. своими чудовищными жерновами, — персонификация неведомых сил зла, враждебных человеку, их отображение в человеческом сознании. Человек не способен познать их и потому не может с ними бороться. Французский философ Жан-Поль Сартр допускал, что один из смысловых пластов «Процесса» — это еврей в качестве подсудимого в долгом судебном процессе — он ничего не знает о своих судьях и почти ничего — о защитниках; он не знает, в чем его вина.
Мир произведений Кафки — это мир странный, причудливый, неестественный. Странность эта достигается необычностью ситуаций, сюжета, персонажей. В итоге обычно лежащий на поверхности смысл утрачивается, обесценивается. Недаром французский теоретик культуры Морис Бланшо, рассматривая творчество Кафки, выводит его из мира смыслов. Для Бланшо Кафка — это писатель, воссоздающий собственный опыт и стремящийся при этом во внесмысловую область Ничто. По-иному интересуется Кафкой его друг и биограф Макс Брод, опираясь на гегелевскую формулу: «Америка» — тезис, «Процесс» — антитезис, «Замок» — синтез. Чистый и наивный юноша из романа «Америка» — это одна ипостась души Кафки. Йозеф К. из «Процесса» — другая; по мысли Брода, и процесс, и казнь при всей своей бессмысленности исполнены высшей справедливости. Йозефа К. судит его собственная совесть, а приговор выносит Бог. Наконец, полностью преодолевший сомнения, но все же к чему-то стремящийся землемер К. из «Замка» — это третья ипостась, уже окончательная.
Произведения Кафки были в значительной мере прямым продолжением, фиксацией его внутренних состояний и видений, тревожным, полным недоговоренностей и смуты рассказом о химерах и мучительных страхах, владевших его сознанием и омрачавших его безрадостную жизнь. Занимаясь писательством, он замыкался в собственной личности, все глубже погружаясь в самосозерцание.
В октябре 1911 года он записывает в дневник: «Бессонная ночь. Уже третья подряд. Я хорошо засыпаю, но спустя час просыпаюсь, словно сунул голову в несуществующую дыру. Сон полностью отлетает, у меня ощущение, будто я совсем не спал... И с этого момента всю ночь часов до пяти я как будто и сплю, и вместе с тем яркие сны не дают мне заснуть. Я как бы формально сплю «около» себя, в то время как сам я должен биться со снами... Вероятно, я страдаю бессонницей только потому, что пишу».
Одиночество, бессонница и страх смерти обратились в творческий порыв. Бессонница стала преследовать Кафку уже в молодости, но он никогда всерьез с ней не боролся. Для Кафки бессонница была прочно сопряжена с творчеством. Он часто повторял — не будь этих странных ночей, он бы никогда не писал. Усталость и отчаяние заставляли его принять отказ от тех целей, недостижимость которых его постоянно угнетала. Вероятно, в обыденной ситуации Кафка не мог достигнуть той степени отстраненности, которая его устраивала, и был способен на это, лишь оказываясь на грани саморазрушения.
Слабость после ночей, лишенных сна, заставили Кафку чувствовать к себе отвращение. Его одолевали бесконечные фантазии. Он видел сны, и были они кошмарны. Кафка чуть не сошел с ума; он утрачивал уверенность в мире, направляемом Великим Часовщиком. Почва, которую он попирал ногами, становилась все более зыбкой. Недаром Кафка говорил, что бессонница, вероятно, есть не что иное, как страх смерти.
Страницы его дневников усеяны записями: «Видение...», «Бессонная ночь. Я думаю, эта бессонница происходит оттого, что я пишу». И опять «Видение...», «Я не могу спать. Только видения, никакого сна». Какие-то из этих видений вылились в его притчи-новеллы, полные символики и иносказаний. Являясь апофеозом неуверенности человека, бессонница в то же время может способствовать творческому процессу, отрешенности и вдохновению. Чем можно объяснить этот парадокс? Очевидно, бессонница в некоторых случаях становится средством обуздать сжигающую человека надежду, трансформировать ее в творческую отрешенность.
Неуверенность появляется только как тень надежды, человек беспокоится о неисполнимости чаемого. Крайняя усталость и отчаяние заставляют изможденного человека принять отказ от тех целей, недостижимость которых его мучает. В некотором смысле творческое просветление всегда есть наслаждение подобным отказом. Но что происходит с отверженными надеждами, могут ли они совершенно раствориться в отрешенности? С ощущением творческой силы должна появиться и надежда на признание, на благотворное изменение собственной жизни благодаря творческому успеху. Таким образом, надежда не исчезает, а лишь видоизменяется.
В октябре 1911 года он пишет в дневнике: «Я ощущаю — особенно по вечерам и еще больше по утрам — дыхание, пробуждение захватывающего состояния, в котором нет предела моим возможностям, и потом не нахожу покоя из-за сплошного гула, который шумит во мне и унять который у меня нет времени. В конечном счете, этот гул не что иное, как подавленная, сдерживаемая гармония, выпущенная на волю, она бы целиком наполнила меня, расширила и снова наполнила. Теперь же это состояние, порождая лишь слабые надежды, причиняет мне вред, ибо у меня нет достаточно сил вынести теперешнюю мысль, днем мне помогает видимый мир, ночь же без помех разрезает меня на части».
Известны признания знакомых авторов о том, что, закончив очередное произведение, они чувствуют не только удовлетворение, но и приближение опустошенности, ведь творчество помогало жить, удерживало от распада. С завершением последней строки не исполнялись мечты о грандиозных переменах в жизни. И при отсутствии признания нередко подкрадывается страх, появляются сомнения в объективной абсолютной ценности произведения. Пожалуй, наиболее трагичным опытом Кафки было именно это осознание.
Одна из главных эмоций, наполняющих произведения Кафки, — это страх. Человек может бояться лишь того, что он в силах вообразить. Почувствовать, что хоть и отдаленно, но согласуется с его опытом. Но способен ли человек представить ужас небытия? Психоаналитики полагают, что страх смерти является видоизменением страха утратить в лице родителей защиту от мифа. Таким образом, напряженное предвосхищение смерти подразумевает страх остаться неоцененным, ведь тщеславие и жажда творческого успеха во многом определяются взаимоотношениями с родителями в раннем детстве. Бессонница обращает человека к творчеству, которое, оставаясь непризнанным, в свою очередь приводит к страху смерти и бессоннице.
В марте 1911 года Кафка посещает теософские доклады Рудольфа Штайнера и при личной встрече рассказывает ему:
— Я ощущаю, что большая часть моего естества тяготеет к теософии, но в то же время я испытываю перед нею сильнейший страх. Я боюсь, что она породит новое смятение, которое может быть для меня очень опасным, так как мое нынешнее несчастье как раз и проистекает из смятения. А вызвано оно вот чем: мое счастье, мои способности и возможность приносить пользу с давних пор связаны с литературным творчеством. Но я при этом переживаю, хотя и не часто, состояния, очень близкие к описанным вами состояниям ясновидения. Я живу в мире фантазий, и чувствую при этом себя на пределе сил, даже на пределе человеческих сил вообще.
В августе 1914 года началась первая мировая война. Русские войска вошли в Галицию. В Прагу тогда съехалось немало беженцев, по преимуществу евреев. Это оживило интерес Кафки к прошлому своего народа. Страницы дневника заполнены мыслями по этому поводу, но почти всегда его размышления соотносились с собственным жизненным опытом, они были заполнены грустью и чувством одиночества. Кафке представлялось, что жизнь отказывает ему во взаимности, и, подводя итоги, он отмечал одни лишь неудачи: «Без предков, без супружества, без потомков, с неистовой жаждой предков, супружества, потомков. Все протягивают мне руки: предки, супружество, потомки, — но слишком далеко от меня».
В сентябре 1917 года врачи впервые установили у Кафки туберкулез. Он принял решение расторгнуть вторую помолвку с Фелицей Бауэр, уволиться со службы и переехать в деревню к своей сестре. Кафка записывал в дневнике: «У тебя есть возможность — насколько вообще такая возможность существует — начать сначала. Не упускай ее. Если хочешь взяться всерьез, ты не сможешь обойти грязь, которая исторгнется из тебя. Но не валяйся в ней. Если, как ты утверждаешь, рана в легких является лишь символом, символом раны, воспалению которой имя Фелица, глубже которой имя Оправдание, если это так, тогда и советы врача (свет, воздух, солнце, покой) — символ. Ухватись же за этот символ».
В 1918 году он писал Максу Броду, что давно уже носит в своем бумажнике визитку, где просит его уничтожить после своей смерти все свои неопубликованные произведения. Кафка, таким образом, поставил под сомнение свой талант и свое творчество. В 1918—1919 годах он ничего не написал. Он смертельно устал. Он уже не верит в свой талант.
Милена Есенская: последняя надежда, последняя иллюзия
Любовь, ты ноги, которыми я причиняю себе боль.
Кафка
В последние годы жизни Кафка испытал большую любовь к чешской журналистке Милене Есенской, с которой познакомился в 1920 году. Памятником этой глубокой и безотрадной любви стали его «Письма к Милене». Чувства писателя были омрачены уже ставшим привычным тяжелым душевным состоянием. Сквозь полушутливый тон писем, проникнутый теплом и сердечностью, проскальзывает: «Я болен душевно, легочное заболевание есть лишь вышедшая из берегов душевная болезнь».
Милена была замужем за Эрнстом Поллаком, которого Кафка знал и уважал. Поэтому переписка идет в безличной форме, на случай, если письма попадут на глаза мужу. Но одно из писем писателя — исключение из этого правила. Милена опубликовала эссе о браке «Дьявол в семье», где писала, что каждый из супругов должен уважать свободу другого. Кафка отправил ей большое письмо, по сути дела — признание в любви. Письмо это он составил в форме диалога между ангелом (Миленой) и «иудаизмом на грани саморазрушения» (маска, за которой скрывался сам Кафка). Эссе Милены Есенской, в котором писатель нашел немало созвучных ему мыслей, стало как бы для них двоих ду- ховным браком. «Иудаизм, подошедший к своему концу, — я бы почти написал: к счастью, подошедший к своему концу, — вступает с недоступным навсегда ангелом в диалог, в котором их голоса сливаются», — говорит Кафка. «Недоступный навсегда ангел» — это Милена. Таковой она и осталась для писателя. А Кафке предстояло прожить всего четыре года.
Тогда же он принялся за свои многочисленные короткие рассказы. Большинство из них обрываются на полуслове, некоторые содержат лишь несколько фраз и только немногие имеют завершенный вид. Чаще всего это мешанина сновидений или кошмаров, смысла которых понять невозможно. В некоторые из рассказов он вкладывает личное содержание. Рассказ «Набор рекрутов»: офицеры, производящие набор в некой стране, призывают мужчин и женщин на военную службу. Женщины радостно откликаются на призыв, словно их приглашают на праздник, лишь некоторые мужчины, испуганные «устрашающим великим приказом», пытаются обмануть бдительность офицеров. Последние противопоставляют им лишь презрение — освобождение от службы само по себе есть худшее наказание. На странном и таинственном языке Кафка говорит здесь об отношении полов: он сам из тех, кто уклонился от призыва и, следовательно, обречен испытывать чувство стыда; перед лицом Милены он в завуалированной форме как бы выносит себе обвинение. Вообще, Милена довольно часто появляется в этих рассказах, обычно странным образом соединенная с образом смерти.
В 1920 году он много писал, перечитывал прежние свои заметки, размышлял, в том числе и об иудаизме. Кафка вновь обратился к Моисею: «Сущность дороги через пустыню. Человек сам себе народный предводитель, идет этой дорогой, последними остатками (большего не дано) сознания постигая происходящее. Всю жизнь ему чудится Ханаан, лишь мысль. Что землю эту он увидит перед самой смертью, для него невероятна. Эта последняя надежда может иметь один только смысл — показать, сколь несовершенным мгновением является человеческая жизнь, несовершенным потому, что длись она и бесконечно, она все равно все- го лишь мгновение. Моисей не дошел до Ханаана не потому, что его жизнь была слишком короткой, а потому, что она человеческая жизнь». Так что цели различны по намерениям, но всегда остается еще и индивидуально избранный путь».
Далекий от того, чтобы исключить себя из еврейства, он, вместе с тем, писал, что, видимо, в большей мере, чем другие, является «западным евреем», во многом лишенным жизненной силы, погруженным в повседневность без веры и надежды. Упадок западных евреев, таким образом, становится причиной его собственного упадка — как и они, сам Кафка не имеет ни прошлого, ни будущего. Как Моисей, он приблизился к Ханаану, но так в него и не вошел. Он не коснулся лона любимой женщины. Он не вошел в нее, испытывая ужас и восторг от обладания любимым телом, не испытал блаженства соединения плоти и духа.
Всегдашний страх увел его от жизни. Его грех заключался в уклонении от исполнения предписанного Законом и в бессилии. Он тот, кто не может любить, тот, кто постоянно слышал: «Ты не можешь меня любить как бы ты того не хотел, ты, на свою беду, любишь любовь во мне; любовь ко мне не любит тебя». «Поэтому неправильно говорить, будто я познал слова «я люблю тебя». Я познал лишь тишину ожидания, которую должны были нарушить мои слова: «Я люблю тебя», — только это я познал, ничего другого».
Кафка подвел итог своей жизни и осознал, что она не удалась. Невротические состояния постоянно терзали его в последние годы. 16 января 1922 года он записал в дневнике: «...бессилие, не в силах спать, не в силах бодрствовать, не в силах переносить жизнь, вернее, последовательность жизни. Часы идут вразнобой, внутренние мчатся вперед в дьявольском, или сатанинском, или, во всяком случае, нечеловеческом темпе, наружные, запинаясь, идут своим обычным ходом... Одиночество, которое давно уже частично мне навязали, частично я сам искал, — но и искал разве не по принуждению? — это одиночество теперь непреложно и беспредельно... Оно может привести к безумию — и это, кажется, наиболее вероятно».
Как в этом предельном напряжении можно избежать безумия? Он не впервые задавал себе этот вопрос. Впрочем, Кафке, который постоянно пребывал в борьбе с неврозами, безумие не угрожало. И он это хорошо знал. Возможно, он был защищен от него самой своей слабостью, «смесью робости, сдержанности, болтливости, безразличия»: «Эта слабость удерживает меня как от безумия, так и от любого взлета. За то, что она удерживает меня от безумия, я лелею ее; из страха перед безумием я жертвую взлетом». Он расценивает это как сделку, в которой он, несомненно, остается в проигрыше.
21 января 1922 года: «Уснул после полуночи, проснулся в пять. Невероятное достижение, невероятное счастье. Но счастье было моим несчастьем, ибо тут же пришла неотвратимая мысль: такого счастья ты не заслуживаешь, все боги вместе обрушились на меня, я увидел их рассвирепевшего Главенствующего, его пальцы страшно растопырены и грозят мне ими с угрожающей силой, бьют в цимбалы. Возбуждение этих двух часов, до семи утра, не только уничтожило результаты того, что дал сон, но и весь день заставляло меня дрожать и беспокоиться».
В обмен на все, в чем было отказано — предки, брак, потомки, — Кафка получил лишь «искусственную и жалкую компенсацию». Эта компенсация осознается лишь через страдание. Таким образом, литература одновременно является спасением и мукой. Он пишет Максу Броду: «Я живу над тьмой, из которой поднимается, когда захочет, темная сила».
Поскольку он как бы не жил, он вдвойне испытывал страх смерти. «То, что казалось мне игрой, оказалось действительностью. Творчеством я не откупился. Всю жизнь я умирал, а теперь умру на самом деле. Моя жизнь была слаще, чем у других, тем страшнее будет моя смерть».
Незадолго до смерти у Кафки почти пропал голос. Страдания его стали невыносимыми. Он просил лечащего врача: «Доктор, дайте мне смерть, иначе вы — убийца». Франц Кафка умер 3 июня 1924 года; тело его было перевезено в Прагу и погребено 11 июня на еврейском кладбище. Несколькими годами позднее рядом с ним оказались отец и мать.
В литературном мире уход Франца Кафки прошел незамеченным. Единственным откликом стал некролог Милены Есенской в пражской газете. Многие считают его лучшим из всего, что когда-либо было написано о Кафке. «Немногие знали его здесь, поскольку он шел сам, своей дорогой, исполненной правды, испуганный миром. Его боязнь придала ему почти невероятную хрупкость и бескомпромиссную, почти устрашающую интеллектуальную изысканность. Он был застенчив, беспокоен, нежен и добр, но написанные им книги жестоки и болезненны. Он видел мир, наполненный незримыми демонами, рвущими и уничтожающими беззащитного человека. Он был слишком прозорлив, слишком мудр, чтобы смочь жить, слишком слаб, чтобы бороться, слаб, как бывают существа прекрасные и благородные, не способные ввязаться в битву со страхом, испытывающие непонимание, отсутствие доброты, интеллектуальную ложь, потому что они знают наперед, что борьба напрасна и что побежденный противник покроет, к тому же, своим позором победителя... Его книги наполнены жесткой иронией и чутким восприятием человека, видевшего мир столь ясно, что он не мог его выносить, и он должен был умереть, если не хотел подобно другим делать уступки и искать оправдания, даже самые благородные, в самых различных ошибках разума и подсознания... Он был художником и человеком со столь чуткой совестью, что слышал даже там, где другие ошибочно считали себя в безопасности». Что же, Милена хорошо его знала и понимала.
В 1924 году это был единственный отклик. Но не прошло и года, как Макс Брод опубликовал «Процесс» и вручил, таким образом, имя Кафки последующим поколениям. Вскоре опубликовали все, включая самое личное и сокровенное. Так пожелал век, в котором мы живем. Макс Брод предпочел литературу почитанию, нарушив завещание Кафки. Но кто сегодня смог бы упрекнуть его за это?