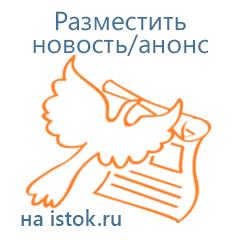КАЗАНЬ
КАЗАНЬ
Вместо школы
КАК Я УЧИЛСЯ
Я не знаю другого отца, которому сын был бы столь обязан знаниями, как я - моему отцу, благословенна его память. Это отец учил меня ”алеф-бейт” (еврейскому алфавиту), дал мне знание Танаха (Пятикнижия, Пророков, Писаний), учил со мной ”Шулхан арух” (свод еврейских законов), Мишну, Гемару (составные части Талмуда).
Как отцу это удалось - ума не приложу, но я ни одного часа не учился в школе. При советских порядках и законе об обязательном начальном образовании - это просто чудо. Чтобы я мог общаться на равных с ребятами, отец какое-то время нанимал для меня частных учителей, которые немного занимались со мной по школьной программе математикой, физикой и русским языком. В основном и этими предметами он занимался со мной сам (как и когда отец приобрел эти знания, мне неизвестно, но такое и не спрашивают о талмид-хахаме - человеке, умеющем учиться; он сделал это ради меня, только бы не отдавать меня в школу).
Отец всегда брал меня с собой в синагогу. В шесть лет я уже знал назубок все молитвы и молился наизусть. Однажды - мне было лет восемь - мы с отцом сидели в сторонке и слушали, как шохет (резник, который режет скот для общины; он должен хорошо знать законы шхиты - правильного убоя скота и вообще быть человеком праведным и сведущим в Торе) разбирал мишнает с группой евреев (там было человек тридцать). Отец тихо сказал мне: ”Хочу, чтобы ты знал: здесь он объясняет неправильно״. Я удивился: почему же отец не поправляет шохета?
Занятия закончились, мужчины прочли вечернюю молитву и разошлись. Шохет подошел к отцу, поговорил с ним, и отец, как бы между прочим, заметил: ”Знаете, в м'ишнает есть одно место, которое не все правильно понимают” - и объяснил. ”Ой, - говорит тот, - а ведь и я объяснил неверно. Надо завтра повторить все заново и исправить ошибку”. Тут я понял, почему отец сперва промолчал. Он не хотел при всех ставить резника в неловкое положение. Этот случай был для меня хорошим уроком.
Отец был очень мягкий и даже застенчивый человек. Он говорил: ”Если кому-то что-то нужно, пусть приходит ко мне и я ему помогу”. А мама была очень активной. Если она знает, что у кого-то в чем-то нужда, то сама туда побежит.
Еврейский закон предписывает евреям в праздник Суккот спать и есть в сукке (специальном шалаше с крышей из веток). Особая обязанность - поесть в сукке в первую ночь. В другие дни, если идет дождь, можно уйти в дом и поесть там, но в первый день праздника надо дождаться, когда дождь кончится, и поесть в сукке.
В Казани лишь один-два еврея имели возможность строить сукку, у нас такой возможности не было. Однако ели мы всегда в сукке. Полшю, однажды в первый вечер Суккот мы с отцом помолились и пошли искать сукку (о том, у кого она есть, даже в миньяне не говорили, настолько это было тайно). Подошли к дому, где обычно она была, - нет сукки. Дошли до другого места - тоже нет. Шел страшный дождь, но мы продолжали поиски. Часа четыре - до полуночи - искали, у кого в этом году стоит сукка, все никак не могли найти. Но нашли! И поели в сукке.
С момента, как я себя полшю, мы жили в жактовской (государственной) трехкомнатной квартире. Звучит неплохо, верно? Но выглядело это так: родители со мной - втроем - в двенадцатиметровой колшате, соседская семья - в таких же апартаментах, а центральная колшата отдана молодежной группе Еврейской секции Компартии.
ЕВСЕКЦИЯ, ИЛИ КТО ТАКОЙ АМАЛЕК?
Еврейская секция - это общее название еврейских организаций РКП (б): после революции коммунисты создали у себя в партии национальные секции, которые должны были внедрять коммунистическую идеологию ”среди своих”, то есть на родном языке уговаривать людей ”строить социализм”. Члены Евсекции беспощадно боролись с ”пережитками прошлого” - с верой своих отцов: закрывали синагоги и миквэ (бассейны для ритуальных омовений, которых требуют законы семейной жизни евреев), запрещали ка-шерный убой скота, сажали в тюрьмы тех, кто обучал Торе.
Сказано в Торе: ”Помни, что сделал тебе Амалек на пути при вашем исходе из Египта. Который напал на тебя в пути и перебил у тебя всех ослабевших [что шли] позади, а ты был утомлен и изнурен, и не убоялся он Б-га” (Дварим, 25:17-18).
”Б-га не боится” - вот главная характеристика Амалека.
Тора продолжает: ”И будет, когда Г-сподь, твой Б-г, даст тебе покой от всех твоих врагов со всех сторон на земле, которую Г-сподь, твой Б-г, дает тебе в удел для владения ею, сотри память об Амалеке из-под небес. Не забудь” (25:19).
Это две отдельные, самостоятельные заповеди - помнить, что сделал Амалек, и не забывать об этом. Тора усиливает приказ тем, что дает к нему ”пару” заповедей (”делай” и ”не делай”, ”асэ” и ”ло таасэ” на иврите). Причем в этом случае Раши указывает на такое различие между ними: не забывать - в сердце, помнить - устами. Тора приказывает нам всегда хранить этот факт в памяти.
До Второй мировой войны я удивлялся: зачем Тора увековечивает память о злодеянии Амалека? Ни о каких других врагах (которых в истории евреев немало) Тора такого приказа не отдает. Почему? Во время этой войны я понял. Потому что Амалек страшнее и опаснее всех других врагов.
Для чего Тора подчеркивает (дважды говорит в трех стихах отрывка), что Амалек напал ”в пути”? А если бандит напал на человека дома, ему что - прощается?
Дело в том, что почти все войны имеют причиной или хотя бы главной формальной причиной борьбу за территории. У народа Израиля своей территории не было - он находился в пути.
Бывает целью войны грабеж, борьба за богатства. У евреев никаких особых ценностей не было. Не серьги же и кольца, которые они взяли с собой из Египта! Да Амалек на них и не покушался.
Бывает, между народами вспыхивает старая ненависть, как у армян с азербайджанцами. Но здесь и этого не было. Амалек -внук Эсава. Эсав и Яаков, наш праотец, - братья. Правда, в свое время они враждовали, но, получив ценный подарок от Яакова, Эсав добровольно ушел в Сеир из Эрец-Исраэль.
Почему же Амалек напал на евреев? Была у него причина, но совершенно особая.
Исход из Египта сопровождался чудесами. Египетские казни были ”курсом лечения” как для египтян, так и для евреев, которые так долго гнили в Египте, что тоже стали служить идолам и были все необрезаны. Надо было открыть глаза и тем, и другим, показать им, что есть Б-г, есть Властелин над миром. Поэтому Всевышний нанес по Египту десять ударов - дал ему десять уроков. Например, главным идолом в Египте была река Нил - поэтому два из первых трех ударов (”уроки” разбиты на группы: три, три, три и один) были нанесены по Нилу: вода превратилась в кровь, сушу заполонили лягушки, вышедшие из реки.
К концу десяти египетских казней евреи стали верующими. Да и многие другие народы призадумались о Б-ге. Амалек со своей ведущей идеей - неверием в силы выше природных - ”не боялся Б-га”. И решил ”разоблачить миф”: пришел в пустыню, напал на евреев, ведомых Всевышним, чтобы показать, что не так уж это страшно. Амалек был разбит, но страх перед евреями как перед народом Б-га был поколеблен.
В имени ”Амалек” - два корня: ”ам” (народ) и ”лак” (лакать). Амалек - ”народ, лижущий [кровь]”. Народ, не просто убивающий, но убивающий, терзая, - наслаждающийся убийством.
Гематрия (численное значение букв в слове) ”Амалек” равна гематрии ”сафек” (сомнение). Главное дело Амалека - сеять сомнение в сердцах евреев: ”Кто сказал, что Б-г есть? Кто сказал, что Тора от Б-га?” А дальше уже идет: ”Вовсе не обязательно молиться. Необязательно соблюдать субботу. Можно и так быть евреем...” - и все прочее, что мы, к несчастью, не раз слышали.
Амалек охлаждает сердца. Сказано о нем: ”Который напал на тебя в пути” - ”ашер карха ба-дерех”. Это можно понимать и как ”который охладил тебя в пути” (”кор” - ”холод”, ”карха” - и ”напал на тебя”, и ”охладил тебя”). ”В пути” - в том долгом пути, которым мы и сегодня идем, ибо от изгнания до прихода Машиаха - большая дорога.
Тора говорит: ”...поклялся Г-сподь престолом, что война у Г-спода против Амалека из рода в род” (Шмот, 17:16). Некоторые слова в этом стихе написаны очень странно: в слове ”престол” не хватает буквы ”алеф” (не ”кисэ”, а ”кес”), Имя Всевышнего дано только наполовину (не четыре буквы, а две). Почему?
Тора указывает нам: пока существует Амалек, престол Всевышнего не целен. Что такое ”престол”? Люди возводят на престол того, кому они решили подчиняться. Слова ”престол Б-га” означают здесь послушание Б-гу. Амалек ослабляет престол, то есть подчинение Б-гу. И потому, пока существует Амалек, престол Б-га не целен. И Имя Б-га так и будет для нас неполным, пока память об Амалеке не сотрется из поднебесья.
Что же касается Германии, то, если коротко, Германия - это Амалек, о чем мы знаем из Устной Торы. Талмуд в Мегиле, 66 приводит слова Раши: ”Гермамия - название власти (государства), происходящей от Эдома (он же - Эсав. - И.З.)”. Виленский гаон (который, среди прочего, изучал написание отдельных слов в Талмуде) уточняет: ”Гермамия” - следует читать ”Германия”. И указывает, что это северяне со светлой кожей и светлыми волосами.
У Эдома-Эсава было много потомков. У одного из его сыновей - Элифаза - был сын Амалек. Германия и есть Амалек, внук Эсава.
Германцы проявились как Амалек еще в Средние века, в эпоху крестовых походов. Они не только участвовали в этих походах, но и безжалостно уничтожали целые еврейские общины на своей территории (всем известны названия таких городов, как Вормс (Вермайза на иврите) и Майнц (Магенца), где евреи были почти полностью истреблены; молитва ”Ав а-рахамим” - ”Отец милосердия”, которую мы читаем по субботам, сочинена неизвестным евреем из Германии).
До Второй мировой войны, пока немцы вели себя тихо-спокойно, кое-кто из евреев уверял, что нам не следует ”помнить об Амалеке” и ”отравлять свои души ненавистью”. Теперь Германия изо всех сил старается, чтобы прошлое было забыто. Но один из еврейских партизан, погибший на войне, раввин, имени которого я здесь не назову, потому что боюсь ошибиться, сказал как-то очень тяжелые слова. Да сотрется, сказал он, имя еврея, который посмеет забыть, что немцы нам сделали.
Почему я говорю об Амалеке в связи с Евсекцией? Потому что Евсекция, которая закрывала синагоги, расстреливала раввинов, добивалась, чтобы евреи работали в субботу, - безусловный Амалек. Если человек сам поступает дурно - это одно, но если он пытается помешать другим поступать правильно - это Амалек.
Рав Эльханан Вассерман цитирует своего учителя Хафец Хаима, духовного вождя евреев Восточной Европы, жившего в 1838-1933 годах: ”Я слышал от святого Хафец Хаима такие слова: ”Ба мир из борур аз зей зайнен фун зера Амолек” (”Для меня очевидно, что они из семени Амалека”. - Идиш.).
Хафец Хаим говорил, что у него нет ни малейшего сомнения: Евсекция - это Амалек, пусть даже она состоит из самых чистокровных евреев. На них, говорил Хафец Хаим, распространяется статус Амалека, все то, что Тора предписывает относительно него, а это значит - всякий контакт и примирение с ними исключены!
Рав Эльханан Вассерман вместе со своими ешиботниками (рав Вассерман возглавлял ешиву в Барановичах, ныне Белоруссия, тогда - Польша) погиб во время Второй мировой войны в Девятом форте под Каунасом, куда их вывезли фашисты.
Отвлекусь, но непременно скажу: статьи рава Вассермана глубоко меня потрясают. Он писал, что евреи - его современники - совершают два греха, поклоняются двум идолам, двум ложным идеям.
Одна из них ־ национализм: идея еврея без Торы, идея ”национальности как у всех”, когда важно только, кем ты себя чувствуешь и считаешь. Поешь ”а-Тикву” (сегодня - гимн Государства Израиль), даешь шекель (на общественные нужды) - и ты еврей, хоть крестись. А заповеди ни при чем.
Второй идол - социализм. В Красной стране преследуют евреев со страшной жестокостью. Прошлые поколения евреев не чувствовали себя столь оставленными, как сегодняшнее.
На небесах, говорит рав Эльханан Вассерман, обоих идолов слили в один - национал-социализм (если вы не знаете - фашизм. - И.З.). И он будет крепко бить евреев. Все эти мысли он находит в Танахе, у Иехезкеля.
Читаешь его как пророка.
Но вернемся к разговору о Евсекции. Это евсековцы добились ареста Любавичского ребе в Ленинграде и настаивали на его расстреле! Может, власти его бы и не тронули, но евсековцам авторитет ребе не давал покоя. Они-то хорошо знали, каков ёго вес и значение в жизни евреев. Это они отняли у ребе в тюрьме тфилин!
Какой позор для нас! Кто пытался добиться, чтобы ребе заменили расстрел десятью годами заключения? Жена Максима Горького! А евреи настаивали на расстреле. Но преступники не избежали кары - двое самых активных из них были казнены той самой властью, которой так угождали!
Это евсековцы в пасхальную субботу специально устроили в Казани вечер, на котором участников угощали булочками и папиросами.
Минчанин Нехемья Маккаби, с которым я познакомился, когда он приехал в Казань (было это много позже описываемых событий; кстати, горячий сионист, Нехемья собирался нелегально перейти границу, и мы с женой - жена особенно настойчиво - отговорили его от этого самоубийственного замысла), рассказывал мне о том, что в эти же годы творилось в Минске.
Евреев в городе было много, и Евсекция орудовала вовсю. В первый вечер Песах Нехемья собирался сесть с отцом за стол - провести Пасхальный Седер. А евреи-коммунисты приступили в это время к своим "антипасхальным" мероприятиям. Они охотились за молодежью - заходили во все еврейские дома и требовали: ”Идем с нами!” Отказываться и вступать с ними в спор было небезопасно. Когда евсековцы вошли в дом Нехемьи, Нехемья с другом спрятался в шкафу.
- Где ваш сын? - полюбопытствовали незваные гости.
Отец пожал плечами: - Ушел куда-то.
Они оглядели все углы, никого не нашли, а заглянуть в шкаф, к счастью, не догадались.
Евсековцы были ”на все руки мастера”. Они устраивали ”еврейские” судилища, где вся процедура велась на идиш. В Минске ”судили” шохета, обвинив его в изнасиловании несовершеннолетней. А это был известный хасид, святой человек... Свидетели на суде отказались от своих показаний, но суд этим пренебрег. Слух об этом прошел по всей России (религиозной), и религиозные люди поняли, что теперь их можно обвинить в чем угодно.
Недавно мне попала в руки брошюра, изданная в Минске в те годы. Она подробно описывает суд над моэлем (специалистом, совершающим обрезание, брит-милу), речи судьи и обвинителя и клеймит подсудимого позором. И все это говорят и делают евреи. Страшно читать.
Есть Амалек и в Израиле. Это партия Мерец - атеисты, которые борются не с религией как таковой, и не с мусульманской или какой-нибудь другой религией - только с еврейской. И пока они ведут и хотят вести эту борьбу, они - Амалек! (Раскаяние не исключено и для Амалека, но не об этом здесь разговор.)
Нельзя прощать Амалека!
ПОД ОДНОЙ КРЫШЕЙ С АМАЛЕКОМ
Итак, центральная комната нашей коммуналки была клубом евсековцев. Они неизменно толпились там по субботам и праздникам - не случайно, видимо, их разместили рядом с семьей раввина. Помню, пришел я домой в пятницу вечером (шабат уже наступил) и хотел пройти к себе в комнату. Один из этих евреев останавливает меня, сует мне, одиннадцатилетнему мальчишке, спички и говорит: - А ну-ка зажги, не то побью!
Я не зажег, вырвался как-то и убежал. И это у себя дома!
К этому времени относится чудом сохранившееся последнее письмо ко мне моего деда рава Мойше-Мишл-Шмуэля Шапиро,- написанное в двадцать восьмом году (это к нему в Литву я так неудачно пытался уехать). Он пишет:
”Мой дорогой внук Ицхак-Иосеф! Мы с бабушкой очерь озабочены тем, что вы живете в ”холодном климате”. И все наши молитвы Б-гу о том, чтобы ты остался верующим евреем, знающим Тору...”
Письмо залито слезами. Вскоре дедушка умер.
В тридцатом году все национальные секции в партии, включая Евсекцию, были ликвидированы. Не прошло и десяти лет, как Сталин стал расправляться и с теми, кто верно ему служил. Привожу выдержку об этом периоде из книги ”Пламя не спалит тебя” (Иерусалим, 1984, с. 76-77):
”Родоначальник ”научного” коммунизма Карл Маркс был сыном еврейских родителей, крестившихся, когда ему было три года. Этому лжемессии удалось увлечь за собой многих из тех, о ком его сподвижник Энгельс писал: "Еврей революционен по своей природе. Он воспитан на идеалах пророков о равенстве и братстве всех людей
Значительный процент в компартиях всех стран мира составляли и составляют евреи. Евреи шли в авангарде русской революции и в течение полувека были одними из самых непримиримых врагов религии своих отцов. На них вина в массовой ассимиляции советских евреев, это их руками Аенин и Сталин уничтожали нашу древнюю культуру, это они преследовали своих братьев, изучавших Тору и иврит... Мы хорошо помним их собственную судьбу - бывших членов ЦК, карательных органов - революционеров еврейского происхождения: почти все они погибли в тех же застенках, куда отправляли своих братьев по крови, оставшихся верными своему Б-гу и своему народу. Те из них, кто чудом остался в живых, как правило, сожалеют о том, что натворили. Многие, выйдя на свободу, раскаялись и вернулись к еврейству... ”Зло твое накажет тебя, и отступничество твое обличит тебя, и ты узнаешь и увидишь, как плохо и горько будет тебе за то, что оставил ты Г-спода, Б-га твоего, и не побоялся ты Меня...” (Ирмеяу, 2:19)”
После сталинских ”чисток” из молодых казанских евсековцев, известных мне, в живых осталось только двое. И эти двое стали такими любезными, такими тихими...
МЫ ־ “ЛИШЕНЦЫ“
В конце двадцатых годов нас из квартиры выселили. Папа был раввин и потому стал ”лишенцем” - его лишили ”права голоса”. И не только, как видите, права голоса, но и жилья. Вместе с семьей.
Детей ”лишенцев” не принимали ни в вузы, ни на работу. Помню грустную историю (я прочел о ней в газете уже в мои студенческие годы): парень окончил университет, и тут выяснилось, что он из ”лишенцев”. Его спросили, почему он умолчал о своем социальном происхождении, и он объяснил, что хотел учиться. ”Это не оправдание”, - возразили ему, отдали под суд и приговорили к заключению.
Моего отца как ”лишенца” отправили на принудительные работы, далеко за город. Каждый день он проделывал пешком многочасовой путь - туда и обратно. Работал отец в поле - другой работы ему, бывшему раввину, не полагалось. Но по субботам отец оставался дома - как ему ни грозили, как на него ни кричали. Следовало ожидать серьезных неприятностей. Однако потом отца все-таки освободили от этих работ по состоянию здоровья, а со временем, благодаря хлопотам его сестры Леи, которая жила в Москве, и совсем отменили статус ”лишенца”. Почему мне и удалось попасть в вуз.
Когда нас выкинули из квартиры, мы сняли комнаты у частника, у него был маленький дом и дворик. Он был очень порядочный верующий русский человек, христианин.
Жили мы трудно, но были рады крыше над головой. Помню, однажды, когда денег не было даже на хлеб, мама хотела пойти занять три рубля. Отец подумал и говорит: - В ”Биркат а-мазон” (благодарственной молитве после трапезы с хлебом) мы постоянно просим: ”Сделай так, чтобы мы не нуждались ни в подарке от смертного, ни в одолжениях его...” Поищи что-нибудь дома, может, найдешь?
Мама поискала, нашла полстакана муки, еще что-то, набрала щепок, испекла пару лепешек, и мы мирно и счастливо прожили три дня, ни у кого не одалживая.
Квартира у нас по тем временам была большая - две с половиной комнаты. Помню, каждый день мама возносила руки к небу и говорила: ”Б-же, благодарю Тебя за то, что мы под крышей”. Но радость наша была недолгой: где-то в двадцать девятом году мы благоустроились, а в тридцатом - спустя неделю после моей бар-мицвы - нас снова выкинули на улицу.
До тридцать шестого года семья рава Ицхак была в статусе ”лишенцы”.
Мы тоже были лишенцы. В тридцать шестом нашу семью выселили из дома, а дом торжественно национализировали. Тогда мы жили в маленьком украинском городишке Межибоже. В свое время отец купил хороший дом, и теперь он приглянулся местному партийному начальнику. Отца посадили в тюрьму, а нас выбросили на улицу...
Может быть, потому, что Ицхак был ”лишенец”, в четырнадцать лет он пошел работать. А тогда была пятидневка: пять дней работали, на шестой отдыхали. Поэтому выходной выпадал иногда на пятницу, иногда на субботу или воскресенье. Тогда даже отменили названия у дней недели, и были только номера: первый, второй и так далее, а шестой - выходной. Приходилось нелегко.
Из рассказа доктора Яакова Цацкиса
Я СТАНОВЛЮСЬ ВЗРОСЛЫМ
Что такое бар-мицва? Так называют мальчика, которому исполнилось тринадцать лет. Так называется и его тринадцатый день рождения. Этот день рождения для еврейского мальчика - особый праздник. С этого возраста исполнение заповедей для него обязательно, и он несет ответственность за себя. С этого момента он присоединяется к миньяну как взрослый. (Слово ”миньян” буквально означает "счет”, ”число”, а в иудаизме - группу из десяти взрослых мужчин. Некоторые религиозные действия, в частности чтение недельных глав Торы по свитку, разрешены только в присутствии такой группы. Сказано в ”Поучениях отцов”: ”Когда десять человек сидят и занимаются Торой, между ними пребывает Б-жественное Присутствие” - Пиркей авот, 3:7.)
На празднование моей бар-мицвы собралось сорок евреев - очень много по тем временам. Я готовил драшу - речь на религиозную тему, которую бар-мицва по обычаю произносит перед гостями. Я и сейчас еще ее помню.
Делалось все очень тихо, люди боялись властей (после моей больше в Казани бар-мицвы уже не справляли). Власти, однако, не дремали, и моя бар-мицва не прошла безнаказанно.
Родился я третьего ава (ав обычно приходится на август григорианского календаря).
Девятое ава у евреев - день поста, самый трагический день в году. В этот день евреи, находясь в пустыне, согрешили, и Б-г вынес приговор: никто из взрослых мужчин, вышедших из Египта (за исключением двоих), не войдет в Эрец-Исраэль, вступление евреев в обещанную страну отсрочено на •сорок лет; в последующие времена, если евреи заслужат наказание, оно осуществится в этот день. Так и происходило на протяжении всей нашей истории: от разрушения вавилонянами Первого Храма, римлянами - спустя четыреста девяносто лет - Второго и до начала концентрации евреев Польши в гетто во время Второй мировой войны. Поэтому многие евреи не устраивают праздников между первым и девятым ава, и нам не хотелось. Так что моя бар-мицва состоялась шестнадцатого, в ближайшую субботу после поста.
Спустя несколько дней власти изъяли у владельца дома, где мы жили, ”излишки площади”, как тогда выражались. Излишками, разумеется, оказалась наша квартира.
И вот мы опять на улице. Наступает осень - а мы без крова. Мать устроилась ночевать у какой-то русской вдовы, меня взяли знакомые евреи, отца тоже кто-то подобрал. Я не всегда даже знал, где родители ночуют.
Весь наш домашний скарб, в том числе и книги, так и остался во дворе прежней квартиры, под открытым небом, как его выкинули при выселении. А на улице идет дождь. У отца было много ценных книг и редчайших рукописей. Я попросил пожилую русскую женщину из какого-то соседнего дома (я не был с ней знаком, просто увидел на улице): ־ Разрешите у вас поставить книги на месяц - на два?
Она согласилась.
Прошли Рош-а-Шана, Иом-Кипур, Суккот. Наконец мы нашли квартиру, и я пошел к той женщине за книгами.
- Ой, - говорит она, - извините, было холодно, и я ими вытопила.
Все книги сожгла...
Положение в еврейской общине было ужасное: верующие не знали, кто среди них доносчик. И доносчиками порой оказывались люди, от которых этого никак нельзя было ожидать. Как-то на молитву собрался миньян, вынесли свиток Торы, а выйти читать никто не решается (свиток Торы читает вслух один из членов миньяна, его называют баал-коре). Двое из присутствующих умели читать по свитку (это особое умение, потому что свиток пишется без огласовок), но боялись доноса. Видеть свиток, к которому никто не смеет прикоснуться, было очень тяжело. Мне к тому времени уже исполнилось тринадцать лет, и я вышел вперед. Так впервые в жизни я читал свиток для общины.
РАБОТА
С четырнадцати лет я начал работать. По закону подросткам полагался сокращенный - шести -, а не восьмичасовой рабочий день. Я нашел место, где меня согласны были принять с тем, чтобы я в субботу не работал. За это я обязался работать не с восьми до двух, как следовало бы, но с восьми утра до восьми вечера - по двенадцать часов в день, шестьдесят часов в неделю вместо тридцати шести. В полседьмого утра я старался уже быть в синагоге, молился, потом учил Гемару, потом отправлялся на работу. Я чинил примусы, керосинки, патефоны, велосипеды. Дело я осваивал старательно и стал рабочим что надо: я слесарь шестого разряда, прошу не шутить!
Из тех времен помнится мне один странный случай. Три дня не выходил я на работу: Рош-а-Шана пришелся на четверг и пятницу, а потом наступила суббота. В воскресенье (мы по воскресеньям работали) только собрался идти, мама говорит: - Не пущу.
Обыкновенно она меня поторапливала, а тут...
- Почему, мама?
- Сердце чувствует: не надо сегодня ходить.
Я разволновался:
- Я три дня пропустил. И так все время грозятся уволить!
Но мама настояла на своем. Я остался дома. И избежал большой беды. А, может, и гибели.
В тот день в мастерской случился пожар. Сгорело все: здание, оборудование, принесенные в ремонт вещи. А я начальника боялся пуще огня: боялся потерять работу. Пошли он меня в горящий дом - я бы не посмел отказаться...
Я проработал в мастерской три года, с тридцать первого по тридцать четвертый. В тридцать четвертом году, после убийства Кирова, которое Сталин, сам же его организовавший, использовал, чтобы развязать репрессии, не работать в субботу стало невозможно. Все кругом проявляли отчаянную бдительность: интересовались, кто мои родители, пытались уговорить, что надо работать в субботу, убеждали, что все, чему меня учат дома, неверно, что вокруг кипит новая жизнь, а я держусь за старое, и т.д. Меня уговаривали четыре недели, но все четыре субботы я на работу не выходил. И с понедельника меня уволили. Мне было семнадцать лет.
В это время в крупных городах страны началась кампания по проверке паспортов. Документы брали у всех подряд, взяли и у отца с матерью. Взяли - и ”потеряли”. Спокойнее нам, сами понимаете, от этого не стало. В результате проверки многих выселили из Казани.
Это ”послекировское” время было ужасно. В городе постоянно шептались о самоубийствах на железной дороге. В страхе перед будущим, в отчаянии люди бросались под поезда...
Другого столь тяжелого периода, как тот, что пережили евреи советской России, в еврейской истории, пожалуй, не было. Во времена Маккавеев греки ввели ”гзерот” (постановления, которые запрещали обрезание, соблюдение субботы и еврейских праздников, выполнение правил кашрута, изучение Торы, ־ короче, которые объявили вне закона всю еврейскую веру), но евреи спустя три года подняли восстание и победили. А в России эти преследования продолжались более семидесяти лет!
Из других стран, где евреев преследовали, они могли хотя бы сбежать. Из советской России было не скрыться.
ОБРЕЗАНИЕ ПОД ЗАПРЕТОМ
Среди ”гзерот” советской власти был и запрет на обрезание (брит-милу). О том, как евреи обходили этот запрет, я уже рассказывал в других своих книгах. Кое-что повторю.
Сегодня немногим известно имя рава Мордехая-Аарона Ленина. А это - настоящий герой, который за свою жизнь сделал обрезание двадцати тысячам еврейских детей.
В Минске было много моэлей, но когда власти запретили обрезание, все испугались. Рав Ленин единственный бесстрашно продолжал свое дело, порой у него на день приходилось по двенадцать-тринадцать бритов. Он никогда не брал за это ни копейки - только немного леках (медовой коврижки) и свечу: при свече он учился, а леках приносил внукам. А ведь у него, благодарение Всевышнему, была большая семья - восемь детей и множество внуков. Прокурор Ходос, осатанелый минский евсековец, отправил этого моэля в тюрьму.
Рав Аснин был арестован накануне праздника Песах. О его аресте удалось сообщить за границу. Протесты мировой еврейской общественности спасли рава: он просидел недолго - его выпустили. (Когда я был в Америке, ко мне пришли два еврея, которые сидели с Лениным.)
Выйдя из тюрьмы, рав вновь взялся за свое.
Зная по опыту, что когда приходят спрашивать об обрезании, откладывать нельзя, чтобы не помешали власти, он сразу говорил:
- Где ребенок? Давайте его скорее сюда.
Это был его привычный ответ. Когда рав тяжело заболел (наступали последние дни его жизни), пришла женщина и спросила о брите. Рав ответил своей обычной фразой:
- Давайте ребенка скорее сюда.
Родные возразили:
- Ты же болен, куда тебе вставать?
Рав махнул рукой:
- Неважно. Пока я жив, я должен делать обрезание. В тот день, когда умру, - перестану.
И он совершил свое последнее обрезание. Назавтра рав Мордехай умер. Его внук, реб Лейб Розенгауз, живет сегодня в Израиле.
Как видите, несмотря на запрет, в те времена немало евреев еще старались выполнить заповедь обрезания. Для этого им приходилось всячески исхитряться.
В тридцатые годы в Белоруссии у одного еврея, сотрудника НКВД (Народного комиссариата внутренних дел - жестокого учреждения, преследовавшего инакомыслящих), родился сын. Жена хочет сделать сыну обрезание. Как быть? Муж нашел выход: ”Я уеду в командировку. Если потом что и скажут - я ничего не знал”. И уехал на две недели. Возвращается, входит в дом с двумя сослуживцами - и что же видит? Его сына только что обрезали, и в доме еще находится моэль! А он, можно сказать, сам свидетелей привел! У злосчастного энкаведиста потемнело в глазах. Он напустился на моэля: ”Ах ты, контра! Враг народа! Ты что с моим сыном сделал?!” Моэль убежал. Но моэль-то знал секрет, неизвестный перепуганному отцу: те двое, что пришли с ним, поступили со своими сыновьями точно так же.
Еврей, начальник пограничной заставы, хотел сделать сыну брит-милу. Но как доставить моэля в зону, где каждый человек на учете и незнакомец сразу бросается в глаза? Начальник условился с моэлем, что тот якобы попытается незаконно перейти границу. Его задержат и, конечно, приведут к начальнику заставы. Так и вышло. Начальник взял арестованного моэля к себе домой, мальчику сделали обрезание, и моэль был отпущен.
Эту историю я слышал лично от рава Аарона Хазана. Бывший москвич, нынче - житель Бней-Брака, он в Израиле издал автобиографическую книгу ”Негед а-зерем” (”Против течения”), где есть и этот эпизод.
Кстати, в разговоре рав Хазан вспоминал разные случаи и из своего прошлого. Подшучивая над тем, что евреи очень любят ”добиваться справедливости”, он рассказывал, как его сотрудники-евреи возмущались тем, что он ”отлынивает” от работы в субботу. Рав Хазан работал в каком-то крупном учреждении, и эти нападки услышал один из видных коммунистов того времени, тоже, увы, еврей. Он буркнул обвинителю:
- Еще слово скажешь - я тебя съем! Ты что в обеденный перерыв делал? Уплетал, небось, за обе щеки. А я Хазана видел - он ни к чему, кроме хлеба, не притронулся...
МОГИЛА СЕДЕР А-ДОРОТ
Рассказать эту историю - мой долг (не запишем - согрешим!). В очередной раз я услышал ее от Ходоса. От того самого прокурора Ходоса, который отправил в заключение моэля Аснина и еще многих невинных людей.
В конце концов, разумеется, и его посадили. Из тюрьмы он вышел другим человеком. Попал в Казань, по-прежнему работал в прокуратуре, но был уже далеко не так рьян. Я давал его сыну уроки математики, и уроки эти проходили у него дома. Как-то я не удержался и спрашиваю:
- Почему у вас на дверях нет мезузы?
Ходос замялся:
- Мне нельзя, я коммунист все-таки.
Я говорю:
- Закон не требует, чтобы она выступала наружу. Можно вырезать отверстие примерно с кулак, чуть меньше, вложить мезузу и закрыть, чтобы и видно не было.
Ходос тут же встал, взял стамеску и выдолбил отверстие. Я дал ему мезузу, и он ее прикрепил. Прикрепил как полагается, с благословением. А однажды, помню, когда больше негде было, мы даже собрали у него дома миньян и молились.
Так вот. У Ходоса умер тесть, и его похоронили на еврейском кладбище. Увидев несколько разоренных еврейских могил (хулиганы и пьяницы основательно бесчинствовали на кладбище), Ходос мне заметил:
- Что у вас тут за безобразие! У нас в Минске такого не было. Правда, есть там могила какого-то большого еврея (фамилии он не помнил и назвал его ”а гутер ид”, ”хороший еврей” на идиш), так ее хотели было разрушить. Но не сумели.
Я спрашиваю:
- Это не Седер а-дорот?
Он говорит:
־ Да вроде того.
“Седер а-дорот” - “Хроника (буквально ־ порядок) поколении” ־ название книги, которую написал гениальный рав Ихиэль Альперин (я уже говорил, что у евреев иногда авторам дают имя по названию их книг). ,,Седер а-дорот” - уникальный исторический труд, отражающий историю еврейского народа от начала времен до дней Виленского гаона, когда книга была написана (примерно двести пятьдесят лет назад). Автор перечисляет там всех великих людей еврейской истории и их труды, особо сосредоточиваясь на эпохе Талмуда. Этот поразительный библиографический справочник содержит названия нескольких тысяч книг. Кроме того, в ,,Седер а-дорот” систематизированы по авторам все высказывания в Талмуде, с указанием места, где какое высказывание находится. И сделано все это одним человеком. Уму непостижимо!
Надо сказать, что книга ”Седер а-дорот” послужила первоисточником для многих исторических трудов.
Я был еще мальчиком, когда приехавшие в Казань из Минска евреи с горечью рассказали отцу, что в Минске разоряют старое еврейское кладбище, выбрасывают кости из могил и строят на этом месте стадион НКВД, - не хулиганы, в отличие от Казани, тут уж Ходос прав, а власти, со всеми своими возможностями и полномочиями.
Надо знать, что Тора предписывает нам очень серьезно относиться к захоронению. Первый урок об этом мы получаем в главе ”Хаей Сара” книги ”Брешит”, где рассказывается, как Авраам купил пещеру Махпела, чтобы похоронить там жену, еще один - в главе ”Вайхи” книги ”Брешит”, где говорится о том, как Яаков просил Иосефа похоронить его не в Египте, а в Эрец-Исраэль. И не просто просил, а взял с сына клятву.
Тора дает нам несколько заповедей о том, как следует поступать с мертвым телом, и строго запрещает тревожить захороненные в земле останки.
Помню, отец спросил:
- А могила Седер а-дорот?
- Нет, - говорят, - ее снести не сумели.
- Как это, - спрашивает отец, - не сумели?
- Все, кто пытался, погибли.
Мне, мальчишке, тогда подумалось: ,,Люди любят преувеличивать”. Потом то же говорил Ходос. Позднее, в пятьдесят третьем ־ пятьдесят четвертом году, в Казани появился Шалом Исакович, видный врач из Минска, знаток Торы, тщательно это скрывавший. Я спросил у него, сохранилась ли могила Седер а-дорот, и он подтвердил, что да, сохранилась. Я никак не мог себе этого объяснить. Чтобы все кладбище снесли, а могила Седер а-дорот осталась?! И, несмотря на подтверждения, мне все не верилось.
Прошло много лет. В шестьдесят втором году мы с сыном Бен-ционом побывали в Самарканде, где жил мой старый знакомый реб Яаков Барашанский. Был он родом из Минска, и я решил - пойду к нему. Возьму Бенциона в свидетели и выясню наконец, что в этой истории правда, а что - нет. Я знал, что этот чистосердечный человек ни разу в жизни не сказал неправды.
Я попросил реб Яакова:
- Если вам что-нибудь известно о могиле Седер а-дорот, расскажите мне, пожалуйста. Но только то, в чем у вас нет никаких сомнений.
Реб Яаков ответил, что он хорошо знает историю с могилой Седер а-дорот:
- У нас во дворе жил еврей, работавший на кладбище. Он был женат на нееврейке, так что можно себе представить, что он был за еврей. Но после истории с этой могилой он стал надевать тфилин каждый день.
Поясню. Смешанный брак у евреев - дело очень серьезное. Смешанный брак - это характеристика. Сразу понятно, на чем человек стоит, выполняет свое назначение или отошел от него. Наш путь, наша судьба - это Тора. Если еврейская пара, не дай Б-г, не соблюдает заповедей, есть надежда, что дети раскаются. А здесь - полное растворение.
В тридцатые годы ”просвещенные” евреи, упиваясь ”равноправием”, стали бросать своих еврейских жен ради неевреек, но в таком городе, как Минск, смешанные браки у евреев были еще редкостью. Так что человек, о котором говорил реб Яаков, был, как видно, пионером в этом деле.
И реб Яаков рассказал: - На могиле Седер а-дорот стоял склеп. Когда советские власти проводили ликвидацию кладбища, двое рабочих забрались на крышу склепа. Оба упали. Один разбился насмерть, второй сломал ногу... Бригадир разозлился: ”Работать не умеют. Я сам пойду". Размахнулся ломом и изо всех сил ударил. Лом отскочил и попал ему в голову. После этого весь Минск боялся подойти к могиле. Но как же быть? Ведь рядом - новенький стадион, старому еврейскому склепу тут не место. Додумались - решили склеп заново выкрасить и написать на нем: ”Известный историк такой-то”. Люди еще помнят, как власти по всему городу искали кого-нибудь, кто согласился бы это сделать, потому что все боялись.
КАШЕРНОЕ МЯСО В ДОВОЕННОЙ КАЗАНИ
В тридцатые годы в ларьке на казанском рынке торговал мясник Залман. Он продавал трефное мясо (то есть мясо животных, забитых не по законам шхиты). В тридцать седьмом году мы с моим другом Мишей Майданчиком, ломая себе голову над тем, как бы организовать открытую торговлю кашерным мясом, чтобы каждый, кто в этом нуждается, мог купить, сообразили вдруг, что для этой цели можно использовать ларек Залмана.
Раз в неделю (по секретной договоренности с начальством) на бойню тайком привозили шохета, с которым было условлено: при малейшем сомнении в кашерности мясо поступает в ”трефа”, а если все в порядке - в ”кашер”. Шохету оплачивали такси туда и обратно и платили за работу, на что в тайной молельне собирали по пятьдесят копеек. В те годы в Казани кашрут соблюдали около тридцати семей, так что одной-двух Коров в неделю оказывалось достаточно. В миньяне объявляли: в такой-то день с двенадцати до двух в ларьке Залмана будет продаваться кашерное мясо по той же цене, что и трефное, - занимайте очередь заблаговременно (без очередей, сами понимаете, советской торговли не бывает). Разумеется, неевреям в такой день тоже доставалось кашерное мясо, но это еврейским законом не запрещено.
Я был удивлен, увидев, что в каждом еврее, даже очень далеком от еврейства, оно все-таки где-то сидит. Приходили в синагогу люди, давным-давно отошедшие от своих корней, и спрашивали: ”Раньше у нас было трефное мясо, а теперь кашерное. Как быть с посудой, как кашеровать?” И это в страшном тридцать седьмом году!
Наша хитрая торговая система продержалась несколько лет. Потом власти откуда-то дознались, что у нас есть кашерное мясо, и стали допытываться, что да как. К счастью, обошлось, никого не посадили, но - пришлось искать другие пути обеспечивать людей мясом.
“ПЕРЕД СМЕРТЬЮ НЕ ВРУТ“
В том, что в каждом еврее, какой бы он ни был, жива та самая искра, я потом убеждался не раз.
Мне отец говорил, что перед смертью не врут.
Случалось, люди вызывали меня перед смертью и просили, если что, похоронить их по-еврейски.
Знаю случай, когда женщина из нееврейской семьи вызвала ра-ва (это было в войну в Самарканде) и просила, если операция закончится ее смертью, похоронить ее по-еврейски, потому что она еврейка. А всю жизнь прожила как нееврейка в семье неевреев!
Да что говорить! Вождь израильской компартии Моше Сне оставил завещание, в котором пишет, что атеизм - просто глупость, и просит похоронить его в талите, а сыну велит читать по нему ”Кадиш”.
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ
Изо дня в день знакомые и соседи твердили моему отцу:
- Ребе, что вытворяет ваш сын? Его поведение и для вас опасно! Ну, неделю он не будет работать в субботу, ну - месяц! Но нельзя же всю жизнь прожить, как на войне! И что из него выйдет? Сейчас, когда ему шестнадцать-семнадцать лет, он мог бы еще учиться и стать инженером, врачом. Но он нигде не учится. Что с ним будет? Простой рабочий тоже должен работать в субботу.
Родители молчали. Мир вокруг становился все мрачнее. Сначала закрыли миквэ, потом шохетам запретили резать мясо, так что людям оставалось либо полностью отказаться от мяса, либо есть трефное. Некоторые выдержали, некоторые - нет. А дети, повзрослев, уже не колеблясь покупали и приносили домой трефное. Потом, в тридцатом году, закрыли синагогу...
Помню, мы с отцом (кажется, это было еще до закрытия синагоги - году в двадцать восьмом - двадцать девятом, я был еще мальчишкой) шли с молитвы со старым шохетом реб Исроэлем, и взрослые уже не впервые вели между собой такой разговор: - В этот Иом-Кипур еще был миньян. А вот соберется ли миньян лет через двадцать?
Мои университеты
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ
Изо дня в день знакомые и соседи твердили моему отцу:
- Ребе, что вытворяет ваш сын? Его поведение и для вас опасно! Ну, неделю он не будет работать в субботу, ну - месяц! Но нельзя же всю жизнь прожить, как на войне! И что из него выйдет? Сейчас, когда ему шестнадцать-семнадцать лет, он мог бы еще учиться и стать инженером, врачом. Но он нигде не учится. Что с ним будет? Простой рабочий тоже должен работать в субботу.
Родители молчали. Мир вокруг становился все мрачнее. Сначала закрыли миквэ, потом шохетам запретили резать мясо, так что людям оставалось либо полностью отказаться от мяса, либо есть трефное. Некоторые выдержали, некоторые - нет. А дети, повзрослев, уже не колеблясь покупали и приносили домой трефное. Потом, в тридцатом году, закрыли синагогу...
Помню, мы с отцом (кажется, это было еще до закрытия синагоги - году в двадцать восьмом - двадцать девятом, я был еще мальчишкой) шли с молитвы со старым шохетом реб Исроэлем, и взрослые уже не впервые вели между собой такой разговор:
- В этот Иом-Кипур еще был миньян. А вот соберется ли миньян лет через двадцать?
Шохет сомневался: - Нет, пожалуй.
Отец задумался: - Если найдется кто-нибудь, чтобы организовал, то соберется.
Взрослым, даже твердо верующим, в те дни казалось, что все кончено. Но я, мальчишка, был уверен, что все будет в порядке. Я решил запомнить этот разговор и посмотреть, что будет. И запомнил. Смотрю: пятнадцать лет прошло - миньян есть, двадцать лет прошло - миньян есть, и еще больше людей, чем прежде...
А сейчас, посмотрите, что происходит! Еврейство расцветает.
Соседи в какой-то степени были правы: куда бы я ни шел устраиваться - везде в субботу надо было работать. Пытался я стать фотографом, часовщиком - везде рабочая суббота. Даже в охранники хотел податься - тоже нельзя: надо в субботу топить печи и отвечать на телефонные звонки. Так я и маялся без работы. Наконец мать, благословенна ее память, предложила: ”Попробуй где-нибудь учиться. Будешь в субботу слушать, а писать не будешь”.
Я нашел подготовительные курсы для желающих поступить в вуз. Курсы эти были организованы при Химико-технологическом институте оборонной промышленности. Институт серьезный, и прием на курсы серьезный.
Дело было в марте, а занятия на курсах начинались в сентябре, да и принимали туда только тех, кто окончил девять классов средней школы. Я трижды был у секретаря, и она в конце концов не выдержала:
- Молодой человек, да поймите же - люди учатся с начала года, и то едва успевают! Программа рассчитана на десять месяцев. Осталось всего три. Какой смысл вас принимать?
То, что я опоздал к началу занятий,- пришел в марте вместо сентября, было не единственной бедой. У меня ведь и справки об окончании девяти классов не было. Я не то что девяти - и одного класса не окончил. Кроме того, на курсах учились без отрыва от производства (тогдашний термин), то есть лишь рабочие с рекомендацией с места работы, а меня только что уволили... Ну и, наконец, требовалась бумажка о “чистом” социальном происхождении. А я... Добро бы - сын рабочего, ладно уж - сын крестьянина. Но сын раввина?! Шансы мои, похоже, равнялись нулю.
Оказалось, кстати, это последний год, когда в институт разрешалось поступать без школьного аттестата, то есть с неполным средним образованием, - все решали вступительные экзамены. Потом эту льготу отменили. Не используй я ее тогда, вуза бы мне не видать.
Как известно, все, что ни случается с человеком, - к лучшему. К родителям пришли гости, и меня попросили приготовить чай. Я поставил чайник на примус и вдруг плеснул керосином на руку и обжег. Три года я возился в мастерской с примусами, включал их и выключал - и никогда никаких происшествий. А тут - обжегся. С больной рукой много не наработаешь, и я понял так, что Сверху хотят, чтобы я предпринял новую попытку.
Я опять отправился на курсы. На .сей раз посетителей принимал почему-то сам директор - национальный, как тогда выражались, кадр татарин Кадыров. Директор выслушал меня спокойно и повторил то же, что и секретарь:
- Прием закончен, занятия давно идут, и мы не можем принимать новых людей, когда даже те, кто занимается, не успевают пройти программу.
Я вижу - ничего сделать нельзя, и говорю:
- Ну, я пошел.
А рядом сидел секретарь комсомольской ячейки Майданчик, еврейский парень. Я знал его с виду, потому что он, собираясь жениться, приходил к моему отцу. Майданчик шепчет:
- Не уходи, подожди!
Я спрашиваю:
- Чего ждать?
Он тихо так:
- Б-г еще поможет.
־ Как?
Он отвечает мне стихом из Торы:
- ”Разве рука Б-га коротка?”
После таких слов я, конечно, не мог уйти. Сижу, жду. Чего - и сам не знаю. Проходит пять минут. Я спрашиваю:
- А сейчас можно уйти?
Он говорит:
- Нет, жди еще.
Жду еще пять-шесть минут. Тут входит парень в военной шинели (Николай Бронников его звали - помнится все, как сейчас). Парень только что демобилизовался и тоже хотел поступить на курсы. Ему директор отказать не мог. Он тут же вызвал преподавателя математики, тот опросил нас обоих и говорит:
- Не возражаю.
А с Мишей Майданчиком мы потом подружились - я уже рассказывал, как мы придумали продавать кашерное мясо через лавку Залмана. Еще помню - в тридцать девятом он по моей просьбе (я хорошо знал еврейскую жизнь города) ходил в Рош-а-Шана на фабрики и комбинат, где работали верующие евреи, - трубить в шофар.
Пусть вас не удивляет, что этот верующий парень вступил в комсомол. Вероятно, он не знал, насколько дело строго (об этом разговор впереди). В те времена он был не единственный, кто старался замаскироваться. И не из трусости. Миша был мужественный человек. В войну он так воевал на Ленинградском фронте, что три года назад (я тогда гостил в Казани) он в числе самых отличившихся ветеранов получил правительственное поздравление с Днем Победы, подписанное лично Ельциным, тогдашним президентом России. Оно меня удивило и запомнилось, потому что кончалось словами ”Помоги Вам Б-г!”.
Я стал аккуратно, каждый день, ходить на курсы. Но официально я еще не был зачислен. Во-первых, у меня не было документа об окончании девяти классов. Во-вторых, меня уволили с работы. Если я скажу на своей бывшей работе, зачем мне справка и куда я поступаю, они только напортят. Как быть - понятия не имею.
Интересно, как Б-г все это уладил. Сперва с работой. Я пошел в отдел, где выдают справки. Там еще не знали, что меня выгнали, и я получил какую-то характеристику. К тому же я потом устроился в другое место, с условием в субботу не работать. В общем, статусу трудящегося я соответствовал. И с происхождением утряс. А потом как-то и со справкой о девяти классах уладилось - не то мне удалось ее раздобыть, не то без нее обошлось, забыли о ней.
Итак, я начал учиться. Ни свет ни заря я вставал и шел на молитву. С восьми до пяти работал. Занятия на курсах начинались в полшестого. Добираться надо в другой конец города. Не успев умыться, грязный, я бежал со всех ног и все равно опаздывал. Занятия кончались в полдвенадцатого ночи. Дома я оказывался около двенадцати. Когда готовиться к занятиям? И не просто готовиться, а догонять, потому что я здорово отстал от остальных...
Пришла пора вступительных экзаменов - поступал я в Химикотехнологический. А время такое, что во всем нехватка. Не хватало и учебников. Мне предстоял конкурсный экзамен по истории партии - предмету очень и очень весомому, а обязательной для всех поступающих ”Истории партии” Волина и Ингулова я ни разу в глаза не видал, хоть и окончил курсы. На всю группу был один такой учебник. Слушатели курсов как-то ухитрялись конспектировать его по очереди, а у меня на это не было времени. Помню, я сказал Всевышнему: ”Ты знаешь, что я хочу исполнить Твою волю. Я хочу работать так, чтобы можно было соблюдать субботу. Я сделаю, что я могу, Ты сделай, что Ты можешь”.
Короче, пришел я на экзамен. И опоздал на полчаса - почему, не помню. Меня крепко отругали, но экзамен все-таки согласились принять: ”Сидите, ждите”. Тут я увидел у одного студента этот учебник и попросил его на несколько минут. Открываю и читаю: ”Седьмой съезд партии. Выступление Ленина о заключении мира с Германией. Выступление Бухарина о войне до победного конца”. Я успел прочесть страницу с четвертью, и меня вызвали. Тяну билет: ”Седьмой съезд партии. Выступления Ленина и Бухарина”. И ничего больше не спросили, поставили хорошую оценку.
Так у меня прошел не один экзамен. Было много удивительных случаев.
Конкурс в институт был не малый, но я все же попал. Было это в тридцать пятом году.
Среди студентов был еврей Максим Эпштейн, убежденный коммунист. Я хорошо знал его отца и никак не думал, что именно он, Максим, будет мне мешать. Я ошибался.
Осенью, в Йом-Кипур, мы молились в каком-то тайном месте. Молился и Эпштейн-отец. (Надо сказать, что в Казани я был самый молодой среди молящихся.) Макс пришел вечером встречать отца и заметил меня. С этого все и началось.
Он стал ко мне ужасно приставать. Невозможно было выдержать. Каждый день он отлавливал меня в институте и мучил часами:
- Ты понимаешь, что ты позоришь честь советской власти перед всем миром? Молодой человек твоего возраста верит в Б-га, да еще ходит молиться? Да тебя надо подвести к дверям и дать такого пинка, чтобы ты дорогу в институт забыл! Слушай, может, это родители на тебя давят?..
И он предлагал мне место в общежитии, настаивал, чтобы я ушел от родителей.
- Ты что думаешь? Ты умнее Ленина и Сталина? ־ кричал он, а люди вокруг слышали, оглядывались на нас...
Что я мог ему ответить? Жизнь мне стала не мила. Но Б-г помог: Макса исключили из партии ”за примиренческое отношение к троцкизму”! Он уехал в Киев.
Прошло несколько лет. Я уже заканчивал университет, был известен как ”подающий надежды” ученик академика Чеботарева. Макс приехал в Казань в гости, и мы случайно столкнулись на улице. Дело было в субботу. Стоим, разговариваем. Максим вынимает папиросу. Я говорю:
- Знаешь что, Макс, не надо курить. Сегодня все-таки суббота
- А-а, - махнул он рукой, - все равно я пропащий...
Но не закурил. Очень он изменился.
А позже, в пятьдесят третьем, я сидел в лагере с его братом, Володей.
УНИВЕРСИТЕТ
Как случилось, что я окончил университет, хотя поступал в Химико-технологический институт? Дело в том, что, проучившись год, я убедился - инженеру-химику не избежать проблем с субботой...
Уже в институте лабораторные работы, как нарочно, приходились на субботу. А ведь в таких работах что ни действие - то нарушение: и электроприборы надо включать, и химические опыты проводить, и записи вести...
Выход, однако, нашелся. Поскольку одну тему давали на двоих студентов, я всю практическую сторону опытов сваливал на напарника, а сам морочил голову руководителю лаборатории, засыпая его теоретическими вопросами и не прикасаясь к приборам.
Я настолько вошел в роль дотошного исследователя, что преподаватель как-то спросил:
- Слушайте, а почему я никогда не вижу вашего напарника? Ему что - все ясно?
Преподаватель решил, что мои расспросы объясняются исключительным прилежанием. Представляете себе?
Разумеется, остальную неделю я добросовестно занимался, наверстывая что можно, но все больше сознавал, что эта специальность не для меня. Я решил уйти.
Не желая терять год, я попробовал поступить сразу на второй курс физико-математического факультета Казанского университета. Мне предложили сдать шесть специальных предметов, которые я никогда прежде не учил, и, кроме того, экзамен по русскому языку.
В числе прочих был экзамен по физике, который принимал крупный ученый-физик Евгений Константинович Завойский. Пройти весь материал я не успел. Но удача не оставляла меня. Экзаменатор задал вопрос как раз из того, что я прочел. Все последующие темы были мне совершенно не знакомы. А меня больше ни о чем и не спросили.
То же повторилось на экзамене по аналитической геометрии - экзаменатор вышел, и я нашел в учебнике образец решения моей задачи. К следующему экзамену я успел подготовиться неплохо, только в одном месте не смог разобраться. Кого я ни спрашивал - никто не знал ответа. Мне задали именно этот вопрос - и, уже отвечая, я догадался, в чем там дело.
Так, Благословен Всевышний, я был принят на второй курс и, уже располагая согласием университета, стал хлопотать о переводе из института. Это тоже потребовало немалых усилий - из Института оборонной промышленности просто так не отпускали. Тем не менее получилось.
В Казани все верующие и ”сочувствующие” евреи знали друг друга.
Наша семья жила по соседству с семьей рава Ицхака. Я помню рава Ицхака еще студентом, совсем молодым, неженатым. Прихватив кусок хлеба и Гемару, он на целый день отправлялся в парк ”готовиться к экзаменам”.
Соседские мальчишки, если им не давалась задача по математике, бежали к водоразборной колонке, где жители нашей улицы набирали воду (в домах водопровода не было}, и ждали, когда Ицхак выйдет из дому за водой. Он тут же, на ходу, объяснял им решение, и они были страшно довольны. А если дело было зимой и к обледеневшей колонке выходила его мать, эти мальчишки-антисемиты (я их прекрасно знал: мы учились в одной школе, они постоянно обзывали нас ”жидами”, и мы вечно дрались) выскакивали из дому, набирали ей воду и относили домой.
Я думаю, это не только потому, что она была мать Ицхака. Просто соседи знали: Зильберы - люди глубоко религиозные и для этих людей надо сделать что-то хорошее. Эту семью знали не только евреи, и к ним относились по-особенному.
Из рассказа доктора Яакова Цацкиса
СУББОТЫ В УНИВЕРСИТЕТЕ
Если в году пятьдесят две субботы, то сколько раз в жизни я должен был изобрести повод не работать в этот день? Причем так исхитриться, чтобы это не бросалось в глаза!
В университете я дальше ближайшей субботы не загадывал, разрабатывал прием только на одну субботу. Я так и просил: ”Рибоно шель олам, Властелин мира, не поминай мне мои грехи и дай мне возможность соблюсти эту субботу”. Почему я не просил больше? Трудности надо преодолевать по одной, нельзя громоздить перед собой гору испытаний. До следующей субботы, может случиться, - не дай Б-г! - меня не станет, или - дай Б-г! - Машиах придет.
У меня был целый набор уловок, позволявших избежать нарушения шабата. Я мазал, например, пальцы йодом и перевязывал руку: вызовут к доске - я нетрудоспособен. Понятно, что каждую субботу так не сделаешь, но раз в месяц - можно. Другой способ я построил на том, что дружил со слабыми студентами и помогал им в математике, а потому в аудитории сидел с ними рядом. И вот, когда на субботу выпадала письменная работа, я ”случайно” забывал принести тетрадь и на вопрос преподавателя: ”А вы почему не решаете?” - отвечал: ”Мы вместе”. Преподаватель был доволен, что я помогаю слабому.
А то вдруг - контрольная в субботу. Я моментально начинаю страдать от зубной боли и отпрашиваюсь в поликлинику. Врач справку может и не дать, но на этот час я выкрутился. И так каждый раз.
Я уже упоминал о Евгении Константиновиче Завойском, известном исследователе парамагнитного резонанса, - он преподавал в университете физику. Мы были знакомы. И вот в субботу он читал большую лекцию на факультете. Слушало его человек двести, не меньше. Я как раз сидел возле выключателя. Время зимнее, в три часа смеркается. Лектор просит: ”Зильбер, включите, пожалуйста, свет”. Я притворяюсь, что не слышу. Через пять минут он повторяет свою просьбу. И в третий раз! А я - не слышу, и все. На мое счастье, какая-то девушка подбежала и включила свет.
Я обычно хорошо ориентировался в учебном материале и никогда не отказывался выйти к доске. Но вот однажды преподаватель механики профессор Николай Гурьевич Четаев вызвал меня к доске в субботу. Я сказал, что не готов. Он меня ”подбодрил”: ”Ничего, я вам помогу”. Я тупо отказывался. Четыре раза в течение занятия он пробовал извлечь меня к доске, но я так и не вышел. Приятного, сами понимаете, мало. К тому же смущало, что профессор может обидеться. Но он не обиделся.
Пришлось как-то бороться и с собственной высокой успеваемостью. Из-за нее меня хотели сделать ленинским стипендиатом, а я боялся, если мой портрет появится на Доске почета, я стану заметнее, труднее будет соблюдать шабат. Поэтому я специально старался получить отметку пониже.
Один случай запомнился как действительно жуткий. Все студенты были комсомольцами. Отказаться от вступления в комсомол было небезопасно. Ко мне постоянно с этим приставали, а я отговаривался, мол, еще не готов, еще не всего Ленина знаю, не всего Маркса, и тому подобное. Так и дотянул до пятого курса.
Но вот уже близятся выпускные экзамены, а я все еще не комсомолец! Недопустимая вещь! Парторг факультета Голованов подошел ко мне с этим вопросом сам. Я и ему отвечаю: ”Я еще не готов, готовлюсь”.
Дело было в пятницу вечером. Вдруг всех зовут на собрание, поговорить об организации госэкзаменов. Обычный ритуал: выбирают председателя, потом секретаря... Голованов предлагает: секретарем - Зильбера. У меня сердце екнуло: ”Догадался, что ли? То о комсомоле говорит, то в секретари предлагает! Хочет принудить писать в шабат?” Пробую отказаться - не выходит. Но если сейчас все обнаружится, меня выгонят из университета...
Начинается собрание. Я сижу. Люди выступают, вносят предложения по графику экзаменов: такую-то группу - в такой-то день, в такие-то часы. Я внимательно слушаю, стараюсь запомнить. Один студент, Генка Изотов, забеспокоился:
- Что же ты не пишешь?
- Подожди, еще запишу.
Через пять минут опять:
- Ну что же ты не пишешь? Мы же забудем! - не вытерпел и сам стал записывать.
У меня камень с души свалился. Раз он ппишоег, все в порядке.
Вечером на исходе субботы я пошел к нему домой и все переписал. Обошлось.
Однажды после молитвы я сидел в ”швддшмыюй синагоге и учил вслух Талмуд. Вдруг вижу - входит мшшшршнер! Власти прознали про тайный молельный дом и послали его закрывать. Я сразу замолчал, но он услышал, что кто-то читает и говорит: ”Ну, кто там читал, продолжай!” Представляете сейхе мое положение? Тридцать седьмой год, я студент третьего курса״. Как я оттуда выбрался, рассказывать не стану - это уж мое дело. Милиционера тогда как-то подкупили, и он молельный ,дом не закрыл.
Во время и после войны, с сорок второго по пятьдесят шестой, по субботам и праздникам у нас в доме собирался миньян: отец хотел, чтобы, мы с братом молились в минжне, а в другое место, он знал, мы не пойдем.
Как-то в Рош-а-Шана Ицхак молился у нас. Наш дом стоял на отшибе, "за спиной” у общежития Химико-технологического института. В дом Ицхак как-то пробрался, выйти же нормально, через калитку, не мог: студенты как раз возвращались с занятий, могли его заметить, а он - на ”больничном”.
Молитва закончилась. Недолго думая и нас ме спросив, Ицхак перемахнул через двухметровый забор, не зная, что за ,ним не сразу идет пустырь, а клином врезается соседский двор. И вместо того, чтобы выйти на пустырь, очутился у соседей. А там во дворе - свирепая немецкая овчарка/
Счастье, что он попал в узкую часть клина - до следующего забора было два шага. Пес кинулся за ним, но не поспел, Ицхак уже забрался на забор. Отделался разорванной штаниной. О чем назавтра нам и рассказал.
Из рассказа доктора Яакова Цацкиса
В те времена в университет часто приходили люди ”в штатском”'.. Лекции прерывались, и начиналось:
- Чем значительнее успехи социализма, тем сильнее ярится враг. Шпионы, диверсанты... - и так далее, известная песня.
- Товарищ Шапошников, - обращаются внезапно к одному из студентов,. - ваш двоюродный брат арестован?
- Я не знаю, - тихо отвечает тот.
- А такой-то - не ваш ли родственник?
- Не помню, - бормочет.
Один студент-подхалим, желая выслужиться, говорит:
- Слушайте, вот вы ничего не помните. Зачем же вы с такой памятью пошли на математику?
На следующем занятии я этого Шапошникова уже не видел...
Помню преподавателя диалектического материализма. Он так убедительно излагал материал, как будто все, о чем говорит, видел своими глазами. И вдруг он пропал. Нету - и все. В чем дело? Оказался ”врагом народа”. Пришел другой на его место - спустя три недели и его арестовали. Третий - то же самое. Директора
Химико-технологического, где я раньше учился, симпатичного Кадырова, тоже посадили. На его место назначили другого - и тоже посадили. Такие были тогда дела.
ТРИ БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ ЗАПОВЕДИ
Как-то сидели мы с отцом и говорили о заповедях, которые еврей не должен нарушать даже под угрозой смерти. Еврею категорически запрещены три вещи: отказ от веры в единого Б-га (например, переход в христианство), разврат и убийство. Эти три запрета еврей обязан соблюсти даже ценой жизни. Другие заповеди можно при определенных условиях нарушить. Так, если, скажем, под угрозой смерти хозяин ־ ради выгоды - заставляет работника-еврея работать в субботу как в любой другой день, еврей должен уступить. Даже если заставляют работать только для нарушения субботы, но это происходит не публично, предписано нарушить, если, отказываясь, рискуешь жизнью. Только если требуют нарушить какой-то закон Торы в присутствии как минимум десяти евреев - должно умереть, но не нарушить. Отречение же от Б-га, разврат и убийство запрещены безусловно.
Особенно подробно мы говорили о первом запрете - о запрещении отрекаться от Б-га.
Отец сказал, что если еврея заставляют вступить в компартию или в комсомол (а одно из условий партийности - неверие во Всевышнего), то надо идти на смерть, но не вступать. Когда-то, если сын крестился, родители сидели в трауре по нему как по умершему (еврейский траурный обряд называется ”шива”, продолжается семь дней и требует определенного поведения; все время траура, кроме субботы, скорбящий находится дома, не занимаясь делами). По закону, сказал отец, нужно бы так сидеть и по тем, кто стал коммунистом.
Этот разговор происходил, помнится, где-то в сороковые годы. В тот день я виделся с Яаковом Цацкисом (сейчас этого врача-уролога, ставшего моэлем, знает пол-Израиля, а тогда это был совсем молодой паренек) и, уж не помню почему, под впечатлением, видно, пересказал ему разговор с отцом.
В те времена в комсомол вступали все подряд ־ как шутили советские люди, добровольно в принудительном порядке. У них в классе тоже всех записали, только он с братом остались ״неохваченными”. После моего рассказа он решил как-нибудь выкрутиться. Они с братом так и не вступили в комсомол.
Я учился в одном классе со старшим братом Борисом (Аовом). В седьмом классе всех поголовно принимали в комсомол. Мне так помнится, что Ицхак знал, что нас должны принимать, и специально пришел за несколько дней до этого. Было это году 6 сорок третьем - сорок четвертом.
Приходит к нам реб Ицхак и проводит подготовку. Мы ему говорим, что у нас все вступают, это чисто формальная штука. Он говорит: нет. Это отказ от Всевышнего, отрицание Его существования - это то же, что креститься. А это было для нас невозможно.
Через два дня весь класс забирают прямо после уроков:
- Берите портфели, идем в райком!
Мы с братом говорим в один голос:
- Мы дома не предупредили, что задержимся, а мама больна. Мы никак не можем пойти.
Ладно, сказали нам, но завтра с утра (мы учились во вторую смену) - сразу в райком.
Мы не пошли. Когда нас спросили; в чем дело, мы придумали очередную причину. Так продолжалось все время, пока мы учились в школе. И все обходилось. Просто чудо. Мы ни разу даже на открытое комсомольское собрание -не остались - находили предлог.
Я и в институт поступил, не будучи комсомольцем. К началу учебного года опоздал - болел. Прихожу где-то на третий день занятий, встречаю знакомую студентку, она мне:
- Поздравляю!
- Спасибо. И тебя тоже (я думал, она меня с поступлением поздравляет).
- Да нет, не с тем. Тебя комсоргом выбрали!
Такая вот неувязочка вышла...
В институте сам Б-г нас берег в течение шести лет. Ни разу не ездили ”на картошку” (летом студентов обычно отправляли на работу в колхозы. - Ред.): как там быть с кашрутом и молитвой? И ни разу никто нас ни о чем не спросил. А годы-то были - с сорок восьмого по пятьдесят третий!
Из рассказа доктора Яакова Цацкиса
Война
Помните журнал под таким названием, когда-то - сугубо атеистический?
Я окончил университет первого января сорок первого года, и в тот же день пошел работать в школу в село Столбищи. С собой у меня было письмо от университетского профессора Николая Григорьевича Чеботарева, в котором он просил предоставить мне, помимо общего для всех выходного, еще один свободный день - для консультаций по поводу моей научной работы.
Тогда в Союзе была шестидневная рабочая неделя с выходным днем в воскресенье. Естественно, я выразил пожелание, чтобы мне освободили ”конец недели”, то есть, как вы понимаете, субботу, последний день перед общим выходным. Мне такой выходной предоставили. Правда, пользовался я им только полгода - во время войны меня дополнительного выходного лишили.
Профессор Чеботарев, специалист по высшей алгебре, был членом-корреспондентом Академии наук СССР, ученым с мировым именем. На ежегодных международных симпозиумах ему неизменно поручался главный - обзорный - доклад о сделанном в этой области науки за год. Профессор продолжал руководить моей научной работой и после того, как я окончил университет.
Думаю, профессор догадывался о настоящей причине моей просьбы насчет “дополнительного выходного”, но виду не подавал. Он был очень порядочный человек.
Мы были очень близки с Николаем Григорьевичем. Профессор относился ко мне как к сыну, был со мной откровенен, говорил порой весьма рискованные для того времени вещи, скажем, об официально пропагандируемом в Союзе мнимом приоритете русских во всех областях науки и техники, как будто никогда и нигде в мире, кроме как в России, ничего не происходило. Или высмеивал знаменитого тогда Емельяна Ярославского, автора нелепой “Библии для верующих и неверующих”, которого ему доводилось слышать. Возвращаясь с конференций, он всегда рассказывал мне, что там было. Как-то, узнав, что моя мама больна, он достал ей синюю лампу (не знаю, пользуются ли этим средством для прогревания сейчас, но тогда широко пользовались). Он принес ее в университет в субботу, а я в этот день по мере возможности пропускал занятия. Я как раз был в синагоге, когда к нам домой пришел староста группы с пакетом.
Когда я женился, то посетил профессора вместе с женой.
По окончании университета я хотел поступить в аспирантуру. Это избавило бы меня от необходимости пойти на работу. Профессор считал меня подходящим для себя аспирантом и в сорок третьем, во время войны, подал заявку на вакансию аспиранта, уверенный, что сможет меня принять, если его просьбу удовлетворят. Я сдал экзамены в аспирантуру, но у Чеботарева с заявкой не получилось. Единственное место аспиранта отдали выпускнику Ленинградского института, эвакуированного в Казань. Весь мой труд по сдаче экзаменов пропал даром. Я сказал себе: ”Барух а-Шем! Р аз меня не приняли, значит, так лучше”. И действительно - вскоре мне понадобилось много свободного времени. Заболел отец, надо было за ним ухаживать - в любом случае я не смог бы учиться в аспирантуре.
Но профессор меня не забывал, и хотя, по житейским обстоятельствам, все реже, мы продолжали встречаться до самой его смерти. Благодаря Николаю Григорьевичу я стал свидетелем удивительного случая.
Первый год моего учительствования подходил к концу, когда началась война.
Во время войны почти вся Академия наук СССР эвакуировалась в Казань. В сорок третьем году отмечалось трехсотлетие со дня рождения Ньютона. Чеботарев был одним из докладчиков на торжественном заседании Академии. По его ходатайству я получил специальный пропуск на заседание.
Выступал Сергей Иванович Вавилов, президент Академии. Он произнес примерно следующее: ”Волосы встают дыбом при мысли о гениальности Ньютона, который почти на три века предвосхитил теорию света”, - и привел цитату из книги Ньютона ”Математические начала натуральной философии”. Я вздрогнул, услышав ее: ”Вы не найдете во Вселенной места, где между любыми двумя точками не действовали бы силы: притяжения или отталкивания, электрические или химические... Я вижу в этом вездесущие Б-га”.
Вы и представить себе не можете, что значило произнести такие слова в той стране и в то время! Докладчик легко мог бы избежать риска, опустив эти слова. Но он их произнес! А я слушал и думал: ”Вся земля полна славы Его!” (Ишаяу, 6:3).
Со мной в университете с разницей в один курс, кажется, учились два еврея, Шифрин и Рудник. Как-то раз, году в сорок втором, когда я забежал в университет на консультацию к Чеботареву, они зазвали меня в какую-то аудиторию и говорят:
- Исаак, мы тебя уважаем как талантливого ученого. Но нас удивляет, как это совмещается у тебя с религией? Просто непонятно.
И они сказали, очень честно:
- О Б-ге не будем спорить - это дело философское. Не будем оспаривать даже исход из Египта. Этому уже больше трех тысяч лет. Нас тогда не было. Но ведь в еврейской религии есть откровенные нелепости. Как же ты, человек науки, можешь это поддерживать?
Я спрашиваю:
- Ну что, например?
У одного из них, Рудника, был сосед, верующий литовский еврей Поташник. Рудник и говорит:
- Вот Поташник мне однажды сказал, что в еврейских книгах написано, будто евреи не вечно будут в изгнании. Б-г начнет собирать их в их страну, и, придет время, они будут жить в своей стране. Это же ахинея! Пока, как мы видим, даже бешеных собак так не истребляют, как евреев. Неизвестно, будут ли евреи существовать через семьдесят-восемьдесят лет. А если и будут - кого выпустят из России? Тебя? Меня? И даже если вообразить, что за подписью Сталина будет объявлено, что все желающие евреи могут ехать в Палестину, ־ кто поедет? Я не поеду, он (показывает на Шифрина) не поедет - мы коммунисты до мозга костей. Как может разумный человек этому верить? И как ты можешь придерживаться религии, утверждающей такие нереальные вещи?
Надо заметить, что в начале разговора они меня предупредили:
- Мы ничего никому не сказали, но сами-то догадались, что ты верующий. Однажды ты не пришел на занятия. Мы выяснили - это был Йом-Кипур...
Они вспомнили еще несколько случаев.
- Мы поняли, - говорит Рудник, - что здесь что-то не так.
Отрицать я не мог, да и не хотел. Но и доверять чересчур - тоже не мог. Рудник, между прочим, возглавлял университетский СВ Б. Тогда это сокращение было понятно каждому. Означало оно не что иное как Союз воинствующих безбожников. Что я мог ему ответить? Да еще в сорок втором году! Я сказал:
- Да, написано, что евреи в этом изгнании не навечно. И что Б-г начнет собирать их постепенно, что мы еще вернемся в свою страну и что во главе народа будет стоять руководитель из семьи Давида. Многие вещи, записанные в Торе и Пророках, исполнились. Например: ”Рассеет тебя Б-г между всеми народами от края света до края света...” Это же исполнилось! Кто бы мог подумать так во времена, когда это было предсказано? И так же, как исполнилось многое, что записано, так и это исполнится. Мы еще доживем до этого.
Так закончился наш разговор.
Прошло время. Я искал их обоих, мне интересно было с ними встретиться, но не нашел.
Много лет спустя, уже в Израиле, я узнал, что Шифрин погиб на фронте, а Рудник преподает в Ленинградском военном училище. Я дозвонился к нему из Иерусалима и говорил с ним по телефону полчаса. Жена смотрела на меня, как на сумасшедшего. Я обычно больше минуты-двух по телефону не говорю. А тут - полчаса. Рудник мне все рассказывал и рассказывал, а я ни словом не напомнил ему о том нашем разговоре. В конце он меня попросил: ”Мой сын в Израиле, помоги ему насчет языка”.
И происходит следующее.
Прихожу я на прием к доктору Цацкису, договориться об обрезании для кого-то из новоприбывших. Поскольку в Союзе редким мальчикам делали обрезание на восьмой день, как требует Тора, некоторые репатрианты делали брит-милу в Израиле уже в таком возрасте, когда нужны специальные, больничные, условия. Сижу в очереди. Передо мной - молодой человек. Слышу фамилию: ”Рудник”.
Спрашиваю:
- Не из Ленинграда ли?
- Да, - отвечает.
Оказывается, сын Рудника в тот день делал обрезание своему сыну!
После обрезания полагается устраивать праздничную трапезу, но в больнице это не совсем удобно. Так что, кроме вина для благословения, я обычно приношу только печенье и прохладительный напиток. Но тут уж я побежал, принес рыбу, хлеб, вино и устроил большую трапезу.
Я написал Руднику-старшему об этой встрече. Прошло время. Рудник приехал в Израиль и побывал у меня в гостях. Он был молчалив - видно, стеснялся говорить при всех. Но потом, выйдя со мной на улицу, бывший глава СВБ воздел руки к небу и говорит: ”Исаак, то, что я и ты здесь, - это от Б-га!” Я дал ему мезузу и тфилин. А потом он прислал в Израиль в ешиву внука, которого ему родила дочь.
Когда я вспоминаю, с каким уничтожающим презрением сами же евреи, особенно юное поколение, относились к верующим, я не могу не поражаться переменам. Помню, мы с мамой как-то зашли к ее подруге. Они посидели, поговорили о чем-то, мама собралась уходить. Хозяйка дома позвала дочь:
- У нас в гостях жена раввина. Иди попрощайся.
- Классовому врагу я руки не подам, - ответила девушка.
Девушка эта училась тогда на третьем курсе медицинского факультета. Она была уже врачом, когда ее мать умерла. Я помню, как она искала человека, который прочел бы ”Кадиш” по ее матери (сделать это должен мужчина).
Однажды в Песах мы с отцом навестили знакомого. Увидев моего бородатого отца, пятнадцатилетний сын хозяина дома демонстративно извлек из кухонного ящика кусок хлеба (в Песах хлеб категорически запрещен) и сел за стол.
А недавно, с год назад, он сидел здесь, в Израиле, за столом у меня. И не полчаса, и не час. Приехал из Казани в Иерусалим, разыскал меня. Женат на еврейке. Чего он хотел? Хотел безвозмездно отдать Израилю свое крупное техническое изобретение. Что и сделал.
Жаль мне отца - он не увидел конец коммунистов. Мама тоже, но она хоть внучке успела порадоваться...
Несмотря на то, что в аспирантуру мне поступить не удалось, я продолжал разрабатывать свою научную тему, время от времени консультируясь с профессором Чеботаревым. Иногда я вставал в пять утра и до молитвы (в Казани я всегда молился в миньяне) занимался математическими изысканиями. Я написал серьезную работу по теории чисел и мечтал, что когда-нибудь пошлю ее самому Эйнштейну.
Потом я подумал: хорошо, допустим, я ее опубликую, получу кандидатскую или докторскую степень. Мне ведь тогда из России ни за что не выехать! И так-то не просто вырваться, а ученому со степенью и того труднее. И я приказал себе (еще при жизни Чеботарева) не трогать больше эту тему. Думал - приеду в Израиль, займусь ею и опубликую.
И вот я в Израиле. Но - некогда! Нет времени. Хотя то, что я доказал, до сих пор еще никто не сделал. Но скажу честно: имей моя работа прикладное значение, будь она применима в медицине, скажем, или в оборонных целях, я бы постарался ее закончить. Или если бы это могло привести евреев к Б-гу - я бы это обязательно сделал. А так, чисто теоретическая работа! Ну и что? Ну, будет одним ученым-евреем больше...
ВОЙНА И ТОРА
Шла война. Страшная война. Я все чаще задумывался над тем, что же станет с Торой. Найдутся ли среди нас лет через восемь - десять люди, разбирающиеся в Талмуде? Владеющие ивритом, арамейским языком? В России таких людей становится все меньше: кто расстрелян, кто в лагерях пропадает. Польское еврейство истреблено под корень. Да, миньян на молитву собрать еще можно, но людей, знающих весь Талмуд, стыдно сказать, даже в огромной Москве было только двое.
Может быть, пришло время переводить Талмуд на русский язык? Пока еще есть знатоки, способные его перевести (для этого только знания языков недостаточно).
Мог ли я знать, что живет на свете человек, который занимается спасением Торы в эти ужасные дни?! Я узнал об этом много лет спустя, уже в Израиле. А тогда я и не подозревал о деятельности рава Хаима Шмулевича.
В годы войны рав Шмулевич со своей ешивой ”Мир” находился в Японии, куда им удалось выехать в начале войны. Ешива работала круглые сутки, почти всегда кто-то сидел за книгой. ”Евреи горят, Тора горит, - говорил рав. - Если мы не создадим замену, все пропало”. Те, кто был тогда с равом Шмулевичем в ешиве ”Мир”, рассказывали мне, что сам он не спал сутками. Однажды он занимался с одним ешиботником, с другим, с третьим - по паре часов с каждым, а получилось - тридцать два часа подряд. И только тогда он, выпив стакан чаю, позволил себе подремать.
Такими усилиями они создали учителей, которые потом обучали молодежь и в США, и здесь, в Израиле. Мы приехали сюда, и мой сын Бенцион еще удостоился чести учиться у рава Шмулевича.
Скромность этого человека была необыкновенна. Он и сейчас для евреев крупнейший духовный авторитет. А для своего времени он был еще и лидером в деле обучения Торе, главным министром, так сказать, по делам Торы! Но сам будто этого не замечал.
Много духовных ценностей спас он для будущего! Рассказывали, что в Японии рава вызвали в тамошние органы безопасности и задали весьма “острые” вопросы:
־ Вы и ваши люди живете здесь. На какие средства вы существуете? Кто вам дает деньги и сколько?
А теперь подумайте: как на такой вопрос можно ответить? Учтите, что во время войны запрещалось переводить деньги из стран-противников, а в ешиву деньги попадали из Америки, которая находилась с Японией в состоянии войны.
Рава вызывали на эти ”собеседования” не один раз. Рассказывали, что перед тем, как идти туда, он молился: ”Рибоно шель олам! Я готов принять на себя все четыре вида казни (имеются в виду четыре вида смертной казни, предписываемые Торой за различные прегрешения. - И.З.): удушение, отсечение головы, заливание в горло расплавленного свинца, забрасывание камнями - только бы не стать доносчиком и только бы мои сыновья и зятья были знатоками Торы”. И Б-г услышал молитву рава: все сыновья и зятья рава Хаима Шмулевича - большие знатоки Торы.
КАК Я ЗАМЕРЗАЛ
Работая в Столбищах, я всю неделю жил в селе, а субботы иногда проводил дома, в Казани. Как- то зимой сорок второго я возвращался из Казани в Столбищи. Из дому я вышел в пять утра.
Хлеб я получал ”по месту жительства” - в Столбищах, а потому дома не поел и был очень голоден. Мороз страшный, минус сорок два. И, что нечасто при таком морозе, валит снег. Все двадцать километров до Столбищ я бежал как сумасшедший и добежал туда за три часа. В восемь я был уже в школе. Но меня ждало разочарование. Пекарня в Столбищах в тот день хлеба не выпекла, потому что из-за мороза не привезли дров.
Лет восемнадцать назад я пришел к раву Зильберу сказать, что у меня родился сын. Я попросил раба быть сандаком (сандак - человек, который держит младенца на коленях при совершении обрезания) у нас на брит-миле.
Рав спросил, какой трактат Талмуда я сейчас изучаю. Я сказал - ”Псахим”. Он моментально прочел мне коротенькую лекцию по вопросу ”тикун а-мидот” (исправления качеств человека; этот вопрос рассматривается в “Псахим”), а именно - гордыни и гневливости.
Потом рав рассказал мне, как он сам изучал трактат “Псахим”. Он работал тогда учителем в деревне и жил в одной комнате с сыновьями хозяев. Молиться, надевать тфилин и учиться каждый день на рассвете бегал в лес - за несколько километров от села.
Приближался Песах. По еврейскому обычаю ”бехор” (первенец) в день перед Песах либо постится, либо устраивает "сиюм масехет", праздничную трапезу в честь завершения трактата Талмуда. Рав Ицхак - единственный сын у своих родителей. Он решил закончить трактат. С собой у него был ”Псахим”, и он занимался им до праздника, а перед праздником устроил ”сиюм масехет”, в соответствии с "минъаг Исраэль”, обычаем евреев.
Звучит просто. Но только для тою, кто не знает, какая это большая работа - изучить ”Псахим”.
Существует выбор: поститься или закончить масехет. По обычаю предпочтительнее сделать ”сиюм”, а не поститься - чтобы сберечь силы для ночного пасхального Седера.
В России во все времена, и в особенности в те, о которых идет речь, положение евреев вполне описывалось пословицей ”не до жиру, быть бы живу”. И в такое время рав Ицхак спокойно обдумывает вопрос, делает выбор и заканчивает масехет, занимаясь по ночам, при лунном свете. Как будто окружающее его совершенно не касается.
Из рассказа рава Игаля Полищука, руководителя русского отделения иерусалимской ещивы ”а-Ран”
Учеников нет. Пожалуй, можно было бы разойтись по домам. Но советские власти не любят, чтобы учителя ”простаивали”. Нам дали задание: пройти по деревням и записать детей, которые должны пойти в будущем году в школу. Мне досталось село Большие Кабаны, в пяти километрах от Столбищ.
По-прежнему голодный, иду в Большие Кабаны. Обычно туда вела тропинка, но сейчас ее замело. Я потерял тропу и сбился с пути. Иду по глубокому - выше колен - рыхлому снегу. Приходится прыгать. Я прыгаю, прыгаю, прыгаю. Двигаться все труднее. Тут еще поднялся невыносимый ветер. Чувствую - силы на исходе. Меня вдруг одолело страстное желание (за всю жизнь по сегодняшний день не испытывал такого непреодолимого желания!) - прилечь отдохнуть хотя бы на минутку. Но я вспомнил, что так замерзают, и стал молиться: ”Я единственный сын у родителей, я еще молод, ничего не успел сделать. И что будет с родителями без меня?” Я просил Б-га пожалеть моих родителей. И Я увидел, что есть Тот, Кто ”шомеа тфила” - слышит молитву. (Это не значит, что Всевышний тотчас же исполняет то, о чем просишь, но молитва не пропадает впустую!) Сунул я руку в карман и чувствую: там что-то лежит, в бумагу завернуто. Вытаскиваю - кусочек халвы! Мы три хода не то что не ели - не видели ни сливочного масла, ни сахара. А тут вдруг халва! Откуда? Ничего не понимаю. (Оказалось, маме накануне удалось купить кусочек халвы у соседа, и она положила мне в карман эту единственную в доме еду.) Я съел кусочек халвы, и мне сразу стало лучше. Я решил бороться до конца. Я прыгал и прыгал из последних сил и чудом опять попал на тропинку. Дошел до деревни, переписал всех детей и вернулся назад.
Вечером опять хлеба не было. И назавтра тоже не было хлеба. Лишь под вечер второго дня привезли дрова и затопили печи в пекарне. Я взял хлеб за много дней вперед - два килограмма (в войну хлеб выдавали по карточкам, на которых указывались даты; вперед можно было взять, а задним числом - нет: не успел вовремя - карточка пропала; и нормы были разные: работающим - чуть больше, так называемым иждивенцам - меньше). Съел все сразу - без соли, без воды, без ничего - и остался голодным.
ГОЛОД
Вы не представляете себе, как трудно было с хлебом в те годы, в сорок втором - сорок третьем. Тяжело вспоминать. Люди умирали от голода каждый день. Занимали очередь за хлебом с вечера и писали номер на руке; помню, как-то у меня был тысяча пятьсот какой-то.
Я стоял сколько мог, потом уходил на работу., а на мое место вставала мама. Она в семье больше всех стояла в очередях, держала книжечку ”Теилим” в руке и ждала хлеба. Утром, когда открывался магазин, в толпе не раз насмерть давили людей. Так получали хлеб.
Однажды мама вернулась без хлеба. Когда подошла ее очередь, одна из эвакуированных, еврейка, закричала, что мама не стояла в очереди. Люди говорили, что стояла, но та женщина все-таки маму силой вытолкала. И мы остались в этот день без хлеба. А кроме хлеба, у нас вообще ничего не было, изредка - картошка. Она денег стоила.
Минуло недели две. Пришла какая-то женщина просить милостыню, и мама ей вынесла кусок хлеба. Женщина взяла хлеб, заплакала и ушла. Мама сказала мне: ”Это та самая, что вытолкала меня из очереди”. Они узнали друг друга.
На отца и на мать было положено по триста граммов хлеба в день, а на меня - шестьсот. Я к тому времени уже вернулся в Казань и преподавал в авиационном техникуме. Когда мне пришлось перейти из этого техникума в другой, кажется, Учетно-кредитный (впрочем, неважно), то при переходе - это было тридцать первое декабря - потерялся один день: за день перехода мне хлеба не полагалось. Мы легли спать грустные.
В эту ночь, часа в три, приходит ко мне кто-то во сне и говорит:
- Слушай, Ицхак, не переживай из-за потерянного хлеба. Сегодня тебе потерю возместят.
Утром я рассказал о своем сне родителям. Мы посмеялись, и я отправился занимать очередь. Стою. Магазин открывается. Толпа рвется в двери - начинается сущий ужас. Меня выдавили вверх: я уже не на земле, а над людьми, передаю кому-то карточку, и мне дают хлеб. Прихожу домой - хлеба ровно на кило двести больше, чем положено по карточке. Обычно я возвращал, если неправильно взвешивали, а в этот раз, единственный в моей жизни, не вернул.
Я всегда был человек рациональный, никогда не придавал значения снам - следовал заповедям и полагался на Б-га. Но этот сон как было не запомнить?! Это же удивительно: в три часа сказали, а утром получил!
От жизни на одном хлебе и воде у меня начался фурункулез. Сколько я ни лечился, ничего не помогало. Кто-то посоветовал поесть сливочного масла. Не передам, каких усилий стоило мне добыть пятьдесят граммов масла, но когда я их съел, все сразу прошло. Еда была уже не просто пищей, а лекарством.
УЛИЧНЫЙ ПАТРУЛЬ
На призывной пункт меня вызывали десятки раз. Но в армию не брали. Молодость у меня, что ни говори, была не слишком легкая: с четырнадцати до семнадцати, как раз в годы интенсивного роста, я работал, да не по шесть, а по двенадцать часов в день. Чуть не после каждой субботы мне грозили увольнением. Я был сильно истощен и нервно, и физически, весь подергивался, да и со зрением у меня было плохо. Сейчас־то я относительно здоров, а тогда, если очень уж хотели взять, писали: ограниченно годен. Иногда давали броню (закрепление на работе, которое освобождает от армейской службы). Так и тянулось.
Война в самом разгаре, положение на фронтах тяжелое. Требовались люди. Их ловили прямо на улице и отправляли на фронт. Как-то в сорок третьем, в субботу, шел я по улице без документов (на территории без эрува - специального ”ограждения” вокруг города, где разрешено переносить вещи в субботу, - нельзя ничего носить с собой; а в Казани эрува не было). Надеялся, пройду как-нибудь. Останавливает меня милиционер:
- Документы!
- Нет документов.
Он записывает имя, адрес и объявляет:
־ Ты мобилизован. Полчаса на сборы.
А дело, напоминаю, было в субботу.
Я прихожу домой и говорю:
- Папа, меня забирают в армию. Немедленно. Дали полчаса на сборы.
Отец спрашивает:
- Ты недельную главу всю прочитал?
Еврей обязан дважды в неделю прочесть недельный раздел Торы, причем один раз - с Таргумом, переводом-комментарием; до субботы я обыкновенно успевал прочесть, но иногда оставался должок. Я говорю:
- Нет.
- Что же ты стоишь? Там же у тебя не будет Хумаша (Пятикнижия). Дочитывай.
Я сел читать.
Но с властями шутить нельзя. Я дочитал и пошел к ним. И опять по какой-то причине отложили мою отправку. Тут меня взяли преподавать в очередной техникум и дали броню. Но до сих пор помню, как спокойно отец сказал: ״Ты ведь раздел не прочитал, а там у тебя не будет Хумаша. Так прочитай сейчас”.
ЕЩЕ О ВСТРЕЧАХ НА УЛИЦЕ
В том же сорок втором году в Суккот останавливает меня на улице симпатичный молодой человек й спрашивает:
- Вы еврей?
- Да.
- Скажите, есть сукка в Казани? Мне нужно в сукку.
Я веду его туда. По дороге узнаю: он студент факультета физики Московского университета, мобилизован и пока служит здесь, в Казани. Отлучился без разрешения, ищет сукку. Я его привел в сукку, он поел.
В том году в Казань были эвакуированы многие московские организации. Как-то меня остановила одна москвичка:
- Не знаете, когда в этом году Йом-Кипур? Когда надо начинать поститься?
И со слезами добавила:
- Это единственное, что я знаю о еврействе.
Вот так вот!
Уже после моей женитьбы появилась эвакуированная женщина и у нас в доме. Звали ее Маша. ТихаД религиозная старушка. Все ее близкие погибли, она ходила по домам, просила подаяние. Я предложил жене взять ее к нам, и она согласилась. Мы прописали Машу у себя. Вы, наверно, и не знаете, что такое прописка, а ведь в свое время и в той стране она, можно сказать, судьбу решала. Каждый гражданин страны должен был иметь определенное место жительства, и это место указывалось у него в паспорте. Получить же право на жилье, на проживание в каком-то городе было непросто.
Маша стала жить с нами. Мы полюбили ее, а она полюбила нас. Маша помогала нам с женой растить и воспитывать детей. Вообще она много для нас сделала. И я, и мои дети многим ей обязаны.
Нам удалось выхлопотать для Маши пенсию. Когда в шестидесятом мы вынуждены были уехать в Ташкент, Маша осталась в нашей квартире одна. Потом Маша совсем состарилась, пришлось поместить ее в дом престарелых, где-то под Казанью. Я старался поддерживать с ней связь из Ташкента. Когда она умерла, мне дали телеграмму, я приехал, перевез ее тело в Казань и похоронил как положено. И по сей день я отмечаю Машин йорцайт (годовщину смерти).
Случай не исключительный. Война лишала людей дома и близких и порой приводила под чужой кров, где они - старики, дети - находили новую семью.
Вы знаете историю о том, как он опекал старушку в Казани? Он очень тяжело работал, когда приехал в Ташкент. Чтобы не работать в субботу, реб Ицхак пошел на бетономешалку, где все делалось вручную...
Жили Зильберы очень скромно. Когда под Казанью умерла старушка, которую он опекал, реб Ицхак взял авансом зарплату за полгода вперед, на эти деньги поехал в Казань и похоронил старушку на еврейском кладбище.
Папа мой потом узнал об этом и, конечно, старался помочь.
Из рассказа Софы Кернер, дочери Владимира и Айзы Кругляков
РЕБ ИЦХАК САНДОК
В начале войны у одного казанского жителя-нееврея, по фамилии Малахов, наша обхцина арендовала помещение. Мы устроили там что-то вроде синагоги и молились. Каждый вечер мы с отцом (я уже оставил Столбищи и жил в Казани) приходили туда и с девяти до одиннадцати учили в уголке Тору. А на скамьях лежали больные люди, беженцы из разных городов, которым негде было ночевать, кроме как в синагоге. И все голодные. Мы бы дали им хлеба, но у самих не было.
В тот вечер в синагоге находились одиннадцать беженцев, все лежачие больные. Где-то после десяти входит высокий худой человек, берет сидур (молитвенник) и читает вечернюю молитву. Помолившись, незнакомец оглядывается вокруг и выходит. Минут через двадцать он возвращается с буханкой хлеба в руках. Килограмма два хлеба, не меньше. Целое состояние по тем временам!
Подходит к одному лежащему, протягивает ему буханку и пятьдесят рублей (столько стоил тогда килограмм картошки). Уходит, опять возвращается через двадцать минут - и второму дает то же самое. И так - всем. Кто это был? Может, пророк Элияу? Он приходил и в другие вечера. Мы не знали, кто он, а спрашивать было не принято. Любознательными были только доносчики.
Незадолго до Песах этот человек пришел к нам домой и немного рассказал о себе. Исаак Зусманович Сандок (мы звали его реб Ицхак-милнер, что на идиш означает ”мельник”) оказался родом из белорусского города Могилева. Очевидно, он занимал там какой-то пост, потому что, когда началась война, ему дали машину и поручили вывозить людей. Он вывез, кого смог, а свою семью не успел: его жену и троих детей убили немцы. И вот теперь он один, и ему негде провести Песах.
Нам стало неловко: у нас просто не было еды.
Он говорит:
- Не беспокойтесь, еду я принесу.
Он принес мацы и немного мяса и провел у нас первый седер. Ждем его назавтра утром - нет. Ждем его на второй седер - опять не пришел. Мы стали беспокоиться ־ не случилось ли чего?
Потом узнали. Работая мельником, реб Ицхак собирал мучную пыль, которая браковалась и в дело не шла. Пыли было много, и он выпекал из нее хлеб, строго по еврейским правилам и отделяя халу (долю от теста). Этот хлеб реб Ицхак раздавал людям.
Многие богатели на мельничном деле, но реб Ицхак остался бедняком - он все раздавал. Разузнав, кто нуждается, он так же, как к нам, зашел еще в четыре-пять мест: приносил еду на весь седер, а приходил только на одну трапезу. У нас он был на первом седере, у кого-то - утром, у кого-то - во второй день праздника.
Это был необыкновенный человек. Каждый год двадцать четвертого ава я отмечаю его йорцайт.
Я перед ним страшно виноват и не могу ничего поправить. Мне следовало послушаться матери, а я не послушался. Реб Ицхаку к концу войны было под пятьдесят и мы подумали: может, он еще женится и у него будут дети. Незамужних еврейских женщин в Казани было очень мало, я имею в виду - религиозных. С одной такой религиозной женщиной лет тридцати шести я предложил реб Ицхаку встретиться.
Они встретились раза два-три. Он молчит. Мама сказала:
- Ицхак, раз он молчит, не надо уговаривать. При сватовстве не уговаривают!
Но я боялся, что через год-два ему уже поздно будет жениться. А он ценил мое мнение. Вскоре они поженились. И не то чтобы под нажимом, но все-таки... Этот брак не был счастливым. Новая жена Сандока несколько лет болела и умерла. Детей у них не было. Реб Ицхак так и остался бездетным. Может быть, не уговори я, его жизнь сложилась бы иначе.
СБЫВШИЙСЯ СОН
Не помню точно когда, но было это незадолго до моей женитьбы, мне приснился памятный сон. Во сне я с удивительной ясностью ощущал себя в Иерусалиме: я шел по святому городу, и в ушах у меня звучали слова молитвы, которую евреи уже две тысячи лет читают в праздники, - ”Ваавиэну ле-Цион” (”и приведи нас в Сион, город Твой, с песнями и в Иерусалим, место Храма Твоего, с вечной радостью”). Напев молитвы был мне незнаком, он повторился несколько раз, и я до сих пор могу его напеть... Уже здесь, в Иерусалиме.
Судьбы военных лет
ХОЛОД
Я преподавал в Финансово-экономическом институте. Нам, преподавателям, выделили участок в лесу, чтобы мы сами обеспечили себя дровами на зиму. Я научился пилить, определять, куда дерево будет падать, напилил два кубометра - положенное количество - и уплатил человеку, ответственному за доставку дров. Он был еврей.
Всем, ну абсолютно всем, дрова доставили, а мне - нет. Пошел я к тому ответственному домой. Прихожу, а его жена сообщает, что он сбежал с деньгами, куда - она якобы не знает.
Так или иначе, я ходил сто раз и пытался получить дрова, но ничего не помогло. Мы остались без отопления.
История эта обернулась для нас страшно.
Была зима сорок второго. В нашей комнате было так холодно, что вода в стакане замерзала. А воду, надо сказать, мы брали в уличной колонке, и отец часами простаивал в очереди.
Мы с отцом занимались так: руки в рукавицах сунуты в рукава, пальто на голову. (Эта привычка долго у меня оставалась - многие годы спустя, сидя зимой за книгой, я укрывался с головой пальто.)
В комнатушку, где мы вот так сидели, приходили к отцу люди с разными вопросами по алахе (алаха - свод законов, регулирующих поведение еврея и устанавливающих правила выполнения заповедей), и к матери как к рабанит приходили женщины. Особенно усердно мои родители занимались ”шлом байт” - восстановлением мира между мужьями и женами. У некоторых пар дело шло туго, они приходили по многу раз, и все-таки родители их мирили.
Как мы жили? Не спрашивайте! Как на беду, зима выдалась особенно холодная - случалось, температура падала ниже сорока, мы же не топили ни разу. Отец простудился и заболел туберкулезом позвоночника. Холод - это страшнее, чем голод. Он лежал без сил и все повторял: ”Рахмонес, рахмонес...” (”Смилуйтесь, смилуйтесь...”).
Отец рава Ицхака был очень уважаемый человек, к нему все ходили советоваться. Он был большой талмид-хахам. Я его помню уже больным. Он с Ицхаком приходил к нам на миньян. Ему трудно было стоять, у него был поражен позвоночник, и во время ”Амиды” он держался за шкаф.
Мать Ицхака была мудрой женщиной. Когда рава не стало, люди ходили советоваться к ней. Когда я поступал в институт, у меня были сомнения: мне нравилась математика, а отец настаивал на медицине. Мы пошли на суд к рабанит. Она спросила:
- А почему ты хочешь техническую специальность?
Я говорю:
- Ну, вран мало получает.
Она говорит:
- Если только эта причина, то ты не прав. Парнаса (заработок) в руках Б-га, и если суждено зарабатывать, ты и как вран будешь зарабатывать хорошо.
Она оказалась права.
Из рассказа доктора Яахова Цацкиса
Отцу надо было сделать какой-то укол. Обратиться можно было к двум специалистам. Один из них жил сравнительно недалеко от нас, а другой - очень не близко. Я считал, что второй врач надежнее. Но к нему добирались только на такси, а денег не было.
Я взял золотые часы отца и скатерть и пошел по людям:
- Не дадите ли в долг под залог этих вещей?
- Нет.
־ Может, купите?
Никто не купил, никто не взял в залог. И тут я совершил непоправимую ошибку: я должен был забыть про гордость и просить милостыню. Но я этого не сделал.
Человек, которому рекомендовали такой же укол, как отцу, поехал к дальнему профессору и прожил еще десять лет, а я пошел с отцом к ближнему, и отец через три недели умер. Раздобудь я деньги на такси, может быть, отец жил бы еще десять лет...
Эта вина мучает меня до сих пор. Он умер молодым, ему не было шестидесяти.
В Талмуде описано несколько случаев, когда к умирающему приходили люди, которых уже нет на этом свете. Талмуд говорит, что раби Иоханан бен-Закай попросил перед смертью: ”Несите скорее стул! Пришел царь Хизкияу!”
За несколько минут до смерти мой отец увидел своего отца... До самого конца он был в полном сознании. За всю свою жизнь ни разу не сказал того, в чем не был убежден. Он лежал в постели, разговаривал со мной, вдруг прервал разговор: ”Ой, реб Ицеле пришел!” - и умер.
О МОГИЛЕ ОТЦА
Отец умер в сорок четвертом году.
Вместе с еще одним человеком я пошел на кладбище искать место для могилы. Не следует хоронить праведника рядом с тем, кто нарушал законы. Мы искали место рядом с могилой такого человека, кто хоть что-то соблюдал: субботу или кашрут, - и не нашли.
Это было большое, плотно заполненное еврейское кладбище.
Я знал тех, кто там похоронен. Тот женат на нееврейке, этот - коммунист... Трижды обошли кладбище. Только одно место могло бы подойти отцу - узкое пространство между двумя склепами над могилами рава Кассиля (он умер в 1890 г.; кстати, писатель Лев Кассиль - его внук, я писал ему, и он подтвердил это родство) и некоего Персона, о котором говорили, что он был очень знающий, почти как рав, и очень добрый человек. Во время Первой мировой войны он устраивал на работу евреев, попавших в Казань.
Я спросил об этом месте в погребальном обществе, и мне рассказали такую историю.
Это место приобрел для себя реб Авраам Цимхес, некогда очень богатый человек, построивший в Казани трехэтажную синагогу еще до Первой мировой войны. Советская власть все у него отняла. Нищим стариком он уехал в Ленинград и умер там.
Затем, уплатив пятнадцать рублей, это место записал на себя габай (управляющий делами синагоги).
Между тем скончался брат Цимхеса, прекрасный человек, которого я хорошо помню. Его любимым присловьем было: ”Что знаю, стараюсь соблюдать. Если чего не соблюдаю, то потому, что не знаю”.
В период нэпа - так называемой новой экономической политики, допускавшей частное предпринимательство: Ленин ввел ее через несколько лет после революции, пытаясь как-то оживить экономическую жизнь страны, - так вот, в период нэпа с ним произошла любопытная история.
Как-то он явился к моему отцу с двумя большими сумками, в которых лежали золотые изделия и драгоценности, и сказал, что у них в доме внезапно умерла сравнительно молодая, лет сорока, женщина, приехавшая на месяц в Казань и попросившаяся к ним жить. Осталось вот это имущество. Он об этой женщине почти ничего не знает. Ищет родных - и не находит. Никого у нее нет. Что делать с вещами?
Отец сказал:
- Ищи. Хоть кого-нибудь, хоть двоюродных.
Цимхес прожужжал людям все уши этой историей. Недели три ходил он повсюду и всех расспрашивал.
Чем дело кончилось, не знаю. Но такое поведение как-то характеризует человека, верно?
Решили, что Цимхес достоин быть похороненным на месте, что когда-то купил его брат, несмотря на то, что габай записал это место на себя. Стали рыть могилу - ничего не получается. Не знаю, что уж там было - зима, бетон, камни... ־ во всяком случае, могильщики два часа долбили яму, вынули чуть-чуть земли и отказались от этой попытки.
Чтобы похоронить отца между равом Кассилем и Персоном, нужно было согласие габая. Я его ищу - он в больнице. Прихожу, рассказываю, что отец мой умер и негде его похоронить... ”Уступаю участок от всей души, - говорит габай, - я себе другое место найду”. И написал бумагу, что продает мне участок, взял в уплату пятнадцать рублей.
Пришли на кладбище. Я говорю: ”Копайте”. И раз-два - вырыли сразу.
ЦАДИК И ОТЕЦ КОММУНИСТА
Когда я думаю о похоронах отца, на память приходят удивительные истории.
В тридцатые годы в Белоруссии один цадик-раввин тайно обучал детей Торе. Как- то пришел к нему портной, у которого сын слркил в НКВД, и говорит раввину:
- Уезжайте скорее, вам грозит арест (это он у сына узнал).
Раввин спрашивает:
- Чем я могу вас отблагодарить?
Тот отвечает:
- Пусть через сто двадцать лет (сто двадцать лет у евреев - символ долголетия) меня похоронят рядом с вами.
- Согласен, - говорит раввин.
И спешно уехал в другой город.
Через несколько лет началась Вторая мировая война. В городе оказалась масса эвакуированных.
В годы войны цадик умер, его похоронили. Вскоре умер еще один еврей. Похоронили и его. Дело было зимой - мороз, метель, все занесено снегом, никто и не разобрался, в каком месте ему отвели могилу.
Когда стаял снег, хоронившие пришли в смятение: человека, о котором ничего не знали, они похоронили рядом с цадиком! Хотели даже поститься из-за этого. А спустя время выяснилось, что неизвестный - тот самый портной, который спас рава.
МОЛИТВА ПОЛЬСКОГО СОЛДАТА
В тридцать девятом - сороковом году в Россию хлынули беженцы-евреи из Польши.
Как вы, наверно, знаете, война в Польше началась раньше, чем в Союзе. Уже после начала военных действий тогдашние восточные территории Польши (т.наз. Западная Белоруссия и Западная Украина) отошли Советскому Союзу по предвоенному договору с Германией, так называемому пакту Молотова-Риббентропа. По каким-то своим меркам советские власти отбирали евреев среди жителей своей зоны оккупации и среди тех, кому удалось перебежать туда из немецкой зоны, и депортировали их в глубь страны. Когда началась война между Советским Союзом и Германией, в Россию (кто успел) бежали и оставшиеся в советской зоне оккупации евреи. Кто-то из них - по подозрению в шпионаже или при попытке нелегально перейти границу - попал в лагеря и тюрьмы, кто-то - в разные города в качестве эвакуированных.
Профессор Мастбаум познакомил меня с таким беженцем, талантливым парнем с медицинского факультета Казанского университета. Он рассказывал, что вырос в семье верующих, что у деда было десять сыновей и на Рош-а-Шана и Йом-Кипур в доме собирался свой миньян. Но к тому времени, как мы познакомились, он абсолютно ничем еврейским не интересовался.
В сорок третьем парень этот пришел ко мне прощаться - уходил на фронт. Я ему пожелал вернуться живым-здоровым и с победой.
Каждую субботу в шесть утра я уходил молиться в миньян - к восьми надо было успеть на работу. В феврале сорок третьего прихожу в субботу домой - как сейчас помню, была глава ”Ваякэль” (каждой неделе года соответствует определенная глава из Торы), а мама говорит:
- Польский студент забегал утром, спрашивал, когда рош-ходеш адар (начало месяца адар). Я сказала, что сегодня. Он спросил, есть ли где-нибудь миньян и где именно. Я дала ему адрес, и он умчался как сумасшедший.
Я в недоумении. Парень за несколько лет ни разу не проявил интереса даже к праздникам, а тут вдруг заинтересовался рош-ходеш адар... И как он, уйдя на фронт, вновь появился в городе?
Прихожу вечером на минху (послеполуденную молитву; ее можно читать до захода солнца) - он уже там. И не просто молится, а ведет молитву как ”шалиах цибур” (буквально - ”посланец общины”) и ”баал-коре” (человек, читающий вслух свиток Торы). Когда я входил, он как раз приступал к чтению Торы (я еще помню, какую ошибку он сделал).
Я его ни о чем не спросил, такой у меня обычай. Он сам рассказал, что произошло.
Новобранцев привезли было на передовую, но потом по ка-ким-то причинам отослали обратно. И вот на обратном пути, ночью в эшелоне, приходит к нему во сне отец и говорит:
- Сын мой, почему ты не читаешь ”Кадиш” за мою душу? Сегодня же йорцайт!
(Он знал, когда и как отца убили, он видел сам. Я не спрашивал его, как он спасся.)
Парень во сне отвечает:
- Папа, где миньян (”Кадиш” читают в миньяне), где ”Кадиш” и где я сам?
Отец говорит:
- Миньян - это моя забота. Ты скажи: прочтешь или нет?
- Прочту.
Отец говорит:
- Будет у тебя миньян.
Ночь. Поезд идет. Куда - солдаты не знают. Что их ждет - неизвестно. Солдаты поют свои песни, ему вспоминаются еврейские мелодии...
На рассвете, когда поезд остановился, оказалось, они вернулись в Казань. Парень вспомнил обо мне и пришел спросить про миньян. А про рош-ходеш адар он спросил потому, что это был день смерти его отца. Оказалось, что сегодня как раз рош-ходеш, и он сразу побежал молиться.
Многие польские евреи, попав в Россию, переставали соблюдать заповеди. Они просто не могли справиться с пережитым. Как можно здесь соблюдать что-то? Немец сжигает евреев во всей Европе. Сбежали в Россию, а тут - снова гонение на иудаизм. Им казалось, что настал конец, полное уничтожение еврейства. Но когда они попадали в наш дом, видели евреев, которые соблюдают все заповеди и остаются при этом нормальными людьми, это их восстанавливало, возвращало к соблюдению закона. Многие потом говорили мне: ”Да знаешь ли ты, какой большой талмид-хахам твой отец?” Не меньшей поддержкой была для них мама, которая читала Теилим, стоя за хлебом в многочасовых очередях на морозе, а когда я приходил сменить ее, отсылала меня домой: ”Если у тебя есть время, иди занимайся Торой”.
СУДЬБЫ ВОЕННЫХ ЛЕТ
Когда Польша была разделена между Советской Россией и Германией, многие польские ешивы переехали в Литву, куда еще не добрались ни Советы, ни немцы. Но в сороковые годы Советы пришли и в Прибалтику. В сорок первом году несколько ешиботников, учившихся сначала у рава Эльханана Вассермана в Барановичах, а потом - у рава Баруха-Бера Лейбовича из Каменеца, попали в лагерь в Коми, на Крайний Север.
Я слышал эту историю давно, но хотел проверить. Сравнительно недавно в Нью-Йорке мне удалось разыскать одного из героев этого рассказа - рава Тувью Гольдштейна и встретиться с ним. Он рассказал мне следующее.
Юноши попали в лагерь в июне сорок первого. Всю первую неделю они работали нормально - таскали бревна. Но в субботу этого делать нельзя. Как же быть?
В Талмуде сказано: если груз под силу одному человеку, то нести такой груз вдвоем - не полная работа, она не является полным нарушением субботы. Если же груз тяжел и под силу лишь нескольким людям вместе, то не является полным нарушением субботы переноска такого груза на расстояние меньше четырех локтей (локоть - полметра).
Парни решили: если попадется небольшое бревно - нести его вдвоем, а если большое ־ еще и останавливаться через каждые три локтя. Так они проработали всю субботу и считали, что сошло благополучно. Не сообразили, что их ”деятельность” отлично просматривается с лагерной вышки.
Кончился рабочий день. Рав Тувья говорит, что помнит этот вечер, как сейчас. Усталые и голодные, они собирались вместе со всеми пойти в столовую хотя бы выпить горячей воды (ничего, кроме хлеба, они в лагере, естественно, не ели). Тут их и остановили. Охранники вызвали лагерное начальство и докладывают:
- Эти люди и живы-то благодаря нам - родных наверняка немцы прикончили. Жилье им дали, работу! А они? Платят черной неблагодарностью. Вот смотрите, ־ показывает охранник, - видите эти бревнышки? И те для них велики! Несут - каждые три шага останавливаются! Типичный саботаж!
Тут же принимается решение - под суд. Прямо на месте. Сидят они, сидят на лавке, а суд тянется и тянется. Один из парней не выдержал:
- Мы верующие. Делали так, чтобы уменьшить грех работы в субботу.
Он хотел облегчить ситуацию, но вышло только хуже. Начальник взбеленился:
- Кого хотите обмануть? Знаю я вашу религию - не дурак был Моисей, чтобы такие глупости говорить. Врете вы все!
Совсем пропали. Что будет?! Расстрелять их в тех условиях - сущий пустяк.
Вдруг в лагерь прибывает начальство - шесть человек из Москвы, из ГУЛАГа (Главного управления лагерями). Странное дело. Обычно начальство, если приезжало, то где-то часа в три-четыре дня, а тут - после шести.
Кто-то из приезжих подходит к ним, отводит одного из парней в сторонку, будто бы разобраться, и тихо, чтобы другие не слышали, говорит на идиш:
- А гутэ вох. Я тоже еврей. Где вы учились?
Парень назвал рава Баруха-Бера Аейбовича из Каменеца. А приезжий:
- Мама у меня из Слуцка. Она мне (я всю жизнь работаю в НКВД) говорила: ты будешь вечно гореть в Геиноме, сделай же хоть когда-нибудь доброе дело верующему еврею. Я до сих пор не сделал. Сегодня, видно, пришло время. Не случайно мы оказались в лагере так поздно. Со мной такого ни разу не бывало, чтобы машина в дороге сломалась. Как нарочно. Тут и впрямь в Б-га поверишь. Рассказывайте, в чем дело. Постараюсь помочь.
Они ему рассказали все.
Приезжий обратился к начальнику лагеря:
- Вы позволите, я сам поведу судебное заседание?
Тот, конечно, закивал.
- Когда заключенных доставили в лагерь?
- Во вторник.
- Как работали?
- Добросовестно.
- В среду?
- Так же. В четверг у нас случилась накладка, так они, можно сказать, вообще спасли положение.
- Ну что ж, значит, не саботажники. Может, ослабели? Постановляю: держать под наблюдением в течение трех дней - в воскресенье, понедельник, вторник. Если будут останавливаться каждые три шага - судить по всей строгости закона. Если будут работать нормально - добавить к дневной норме по двести граммов хлеба...
С тех пор те из них, кто остался в живых, отмечают этот день, двенадцатое тамуза, как день своего спасения. Рав Тувья Гольдштейн когда-то приезжал из Нью-Йорка в Иерусалим, и этот рассказ я слышал от его знакомого. Но я хотел его самого расспросить, и мне это удалось года четыре назад в Нью-Йорке.
ШОФАР ПОД МОСКВОЙ
Рассказываю об этом здесь, потому что, как мне кажется, это произошло в войну.
Один московский еврей трубил в шофар своим детям каждый Рош-а-Шана. Его сына-студента взяли в армию. Отец переживал, что впервые за двадцать лет сын не услышит шофар в Рош-а-Шана. Он узнал, где расположен военный лагерь, в котором находится сын, выяснил, что лагерь стоит неподалеку от леса, заблаговременно, до начала праздника, сделал в лесу эрув, чтобы иметь возможность передвигаться, запасся двумя буханками хлеба и провел в лесу эти два праздничных дня. И сын шофар слышал. Он не понимал - откуда, но он внимательно слушал!
ЕВРЕЙСКАЯ СВАДЬБА
Помню военную свадьбу двух верующих людей. Женились бывший польский ешиботник, арестованный как шпион и незадолго до свадьбы вышедший из заключения, и немолодая - лет тридцати семи-восьми - женщина из Казани.
Вы спросите, причем тут возраст невесты и почему я так ”неделикатно” его подчеркиваю? Потому что проблема брака была в Казани страшнейшая проблема! Во всяком случае, все то время, что я там жил (в Ташкенте, где я потом оказался, было не так: там только бухарских евреев было пятьдесят тысяч). Проблема вообще для евреев, не только для религиозных. Трудно было найти пару - мало было в городе евреев. Парни даже из самых религиозных семей женились на нееврейках. Я знаю сотни таких браков. Некоторые пытались искать в Москве, но не всем это было доступно.
Был у нас в городе еврей по фамилии Вигалок. Немолодой, больной человек. Его дочь все-таки нашла еврея. Ой, как он танцевал, как он танцевал на свадьбе! А спустя неделю умер. И сказал перед смертью: ”Я умираю, но я спокоен за будущее!”
Что много говорить! Это было очень нелегко - найти пару. И если девушка выходила за еврея, это был особый случай и особые танцы.״.
Потому и подчеркиваю, сколько лет было невесте. Много лет она ждала :и искала,, и вот наконец встретила!
Перед, свадьбой, как известно, невеста должна окунуться в миквэ. А.миквэ - только в Москве. Восемьсот километров, сутки пути, без командировочного удостоверения не проедешь (по законам военного времени).
Пошел я к одной женщине ־ заместителю директора большого завода, чьей дочери я давал уроки математики. Человек она была боевой, отношения у нас были открытые, можно было говорить прямо: ”Нужна ״липовая” командировка в Москву. Можете выдать?” Она выдала. (Сами понимаете, риск был нешуточный.)
Невеста поехала в Москву. При проверке документов в поезде дотошный энкаведист в штатском обнаружил, что командировка фальшивая. Можно было не сомневаться ־ нам конец! Всем нам: и невесте, и замдиректора, выдавшей командировку, и мне. И тут произошло чудо: женщина заплакала - и он ее пропустил! Она добралась до Москвы, окунулась в миквэ и вернулась.
Однако пережитое потрясение так подействовало на женщину, что миквэ оказалась недействительной. Снова пришлось искать ’ ,командировку”...
На этот раз невеста доехала благополучно. Свадьба состоялась.
ИНЖЕНЕР САФЬЯН
Борис Соломонович Сафьян работал на крупном заводе точных оптических приборов в двадцати километрах от Казани. Он был большим человеком и на заводе, и в городской партийной организации (полшю предвыборные плакаты с его портретом на городских афишных тумбах; не полшю, правда, куда выбирали). Но Борис Соломонович был член партии только формально, на самом же деле верил в Б-га и соблюдал заповеди.
Во время войны Борис Соломонович .устроил на работу и обеспечил жильем сорок эвакуированных евреев. Сорок человек как минимум (у них ведь еще и семьи были) спас от голодной смерти, сорок жизней вырвал из рук Амалека. Это был настоящий праведник. Как и Ицхак Сандок, цадик, благословенна память обоих.
Один из спасенных Борисом Соломоновичем евреев, Шарип-кин, рассказал мне, что приехал в Казань из Ленинграда в третьей стадии дистрофии. Он был так слаб, что не в силах был подняться в автобус. Сафьян остановил его на улице, без лишних слов привел к директору завода и говорит:
- Сам знаешь, работа не идет.
Тот вздыхает:
־ Что поделаешь! Специалистов нет.
Сафьян:
- Вот тебе специалист - принимай!
Тот глянул на "специалиста”:
- Куда ему работать? Он на ногах не стоит!
־ Ничего. Дадим шестьсот граммов хлеба ־ окрепнет. Давай, бери его!
Директор оформляет Шарипкина на работу, и Сафьянлозится с ним три-четыре месяца, учит делу.
В субботу Сафьян всегда вертелся в цехах, не работая и не подписывая бумаг. Тот же Шарипкин рассказал мне такой случай.
Завод нуждался в каком-то редком сплаве, и по этому поводу пригласили представителя из Москвы. В пятницу вечером началось заседание ”на высоком уровне”. От завода речь держал Сафьян. Он сумел доказать, что требуемый сплав позволит резко увеличить выпуск продукции. Представитель из Москвы кивнул:
- Ладно. Пишите заявку - подпишу.
Шарипкин, присутствовавший на собрании, замер. Как Сафьян выкрутится? Он же не пишет в субботу!
Борис Соломонович почтительно возразил:
- Я думаю, вы лучше меня сформулируете.
Москвич нахмурился:
- Что за чушь! Ваша заявка - вы и пишите.
Сафьян не смутился:
- Нет, вам виднее, как аргументировать. Лучше вы.
Препирательство продолжалось долго. Кончилось тем, что москвич сдался. Сам написал и подписал.
У советской власти и так-то пререкания были не в ходу, а в военное время - и подавно. Такое надо уметь выдержать.
Впервые я услышал о Сафьяне (он был в Казани приезжий, эвакуировался, как видно, вместе с заводом) так.
Приезжаю из Столбищ домой на субботу, и отец рассказывает:
־ Странная история. С год назад приходил молодой человек, просил пригласить моэля - сделать его сьщу обрезание. Хорошо, говорю, давайте адрес. Нет, адрес он дать не может - только номер почтового ящика. Приезжал моэль (моэль тогда приезжал в Казань раз в три-четыре месяца), я послал телеграмму на почтовый ящик, а этот человек является на следующий день после отъезда моэля.
Второй раз - то же самое. И третий. Год, считай, прошел! Когда он пришел в третий раз, я даже рассердился:
- Молодой человек, если вы будете продолжать эти фокусы, вашему сыну придется делать свадьбу и обрезание одновременно.
Тогда он дал адрес.
И вот теперь наконец удалось сделать обрезание. Так я тебе скажу, моэль поражен. Такое там увидел! Человек ежедневно надевает тфилин, молится, каждый день читает семьдесят две главы ”Теилим”, не ест трефного, а вокруг - одни неверующие! Это тебе не Казань - заводской поселок с казенным жильем. Все между собой знакомы, все насквозь видно...
Молодой человек этот и был Сафьян.
Чего только Сафьян не делал! Приезжал в Казань, привозил вещи из дому, просил меня дать кому-нибудь на продажу и раздать деньги голодным (я и познакомился с ним, когда он впервые пришел к нам с такой просьбой). Сам он, понятно, делать такое не мог - как объяснишь, зачем это хорошо оплачиваемому инженеру?
А уже после нашего знакомства с Сафьяном произошла невероятная история, настоящее чудо. На заводе нашелся доносчик, сообщил ”куда надо”, что Сафьян - верующий. Борису Соломоновичу грозило исключение из партии и увольнение. Перед собранием он пришел ко мне с вопросом:
- Собрание будет как раз в пятницу вечером. Меня явно попробуют испытать. Вдруг как бы ненароком предложат закурить? Ведь тут ”пикуах нефеш” (угроза жизни), это не шутка! Как быть? Можно или нет?
Я сказал:
- Нет.
И вот идет собрание, обсуждается донос, публика пытается разобраться, верующий Сафьян или нет. Неожиданно один за другим встают люди и говорят, что не понимают, о чем разговор, ־ Сафьян, дескать, при них не раз курил в субботу.
С чего они это взяли? Перепутали? Или выручить хотели? Во всяком случае, собрание ухватилось за возможность оправдать Сафьяна - он был слишком ценным специалистом, чтобы его терять: где что не ладилось на производстве, его посылали, и он все налаживал. Так что собрание постановило: донос - клевета на честного работника! И доносчику пришлось убраться с завода! Вы когда-нибудь такое видели - чтобы уволили доносчика, а не того, на кого донесли?!
Когда мы узнали, что он там у себя соблюдает кашрут, мы взялись обеспечивать его кашерным мясом. Это продолжалось многие годы.
Последнее, что мама делала перед смертью, - уже больная, в холодной воде кашеровала мясо для Сафьяна.
Она умерла в сорок девятом году.
Ни разу я не видел во сне отца и мать вместе. Но когда я сидел в тюрьме, они пришли вместе. В ночь перед судом.
Женитьба
МОЙ ШАДХАН РАВ МОРДЕХАЙ ДУБИН
Моим сватом был рав Мордехай Дубин. Он приезжал ко мне с невестой из Куйбышева.
Вы спрашиваете, как они обо мне узнали? От бывавших в Казани куйбышевцев. Раву сказали, что в Казани живет молодой человек, который отказывается работать в субботу.
До войны Дубин был депутатом Латвийского Сейма (парламента). На этом посту он делал много добра. Рассказывали, что очередь на прием к нему тянулась на пол-улицы, и он никому не отказывал в помощи. Потом, когда Прибалтика была присоединена к СССР и рав Мордехай увидел, что вытворяют коммунисты, он говорил, что об одном жалеет - что вызволял евреев-коммунистов из тюрем, когда об этом его просили их родители...
Благодаря усилиям Дубина в тридцатые Тоды трем тысячам евреев удалось уехать из Польши в Америку (рав Мордехай добился, чтобы Америка их приняла). Это он ״приехав в Советскую Россию как представитель Латвии, вытащил Любавичского ребе из заключения и увез в Ригу, буквально обменяв его на торговый договор, один из первых договоров Советской России с иностранным государством.
Жена рассказывала, что хабадники (Хабад - течение в хасидизме) намеревались вывести из Советского Союза и самого Дубина. После войны.
От кого жена слышала об этом, не знаю, за детали не ручаюсь. Как раз когда рав готовился к побегу, он получил известие, что его единственный сын погиб в концлагере Берген-Бельзен. Очевидец рассказал, что его сын был еще жив, когда американцы освободили лагерь. Крупный, высокий человек, он, как многие люди сильного телосложения, особенно тяжело переносил голод. Совершенно истощенный, он умер сразу после освобождения.
Не знаю, связано ли это было с известием о смерти сына, но рав Мордехай отказался уходить. Для перехода границы ему надо было сбрить бороду. Он сказал, что ради этого сбривать бороду не стоит. Остался в России, хотя здесь над ним постоянно висела угроза ареста. Я всегда жалел, что он не ушел. Сколько бы он мог сделать!
В первый раз Мордехая Дубина посадили, когда русские вошли в Латвию. За то, что ...он был депутатом! Он просидел в тюрьме год и вышел в лаптях, еле живой. Перед войной рав оказался в Москве, а когда началась эвакуация, попал в Куйбышев. Поиски кашерного дома привели рава Дубина в дом родителей Гиты, моей будущей жены.
Рав помог Гите и ее сестрам разобраться, что происходит вокруг, объяснил, что за ”личности” Ленин и Сталин, которых все вокруг боготворили. Сестры считали их чуть ли не святыми, и их особенно потрясло, что первый ״великий вождь” умер от дурной болезни, а второй ־ еще живой - пинком сапога убил жену (ходившая на Западе версия).
Депутат Латвийского сейма, лично знакомый с американским президентом Рузвельтом, Дубин знал многое. Впервые он побывал в России в восемнадцатом году: народ гол и бос, с красными бантами и в красных косынках - все равны. Приехав году в двадцать четвертом, он увидел уже другую картину: один - в отрепьях, другой - в меховой шубе. Уже не все равны. Динамика революции.
В те годы каждую ночь шли аресты. Семья Гиты жила в многоквартирном доме, и когда ночью в длинном коридоре раздавались шаги, все с замиранием сердца ждали, в какую дверь постучат. Однажды постучали в их дверь. Когда открыли, Дубин побелел. Но энкаведисты ”пошутили”: ”Не бойся, не за тобой. Еще не твоя очередь”. Они пришли за другим человеком и ошиблись дверью.
После войны рав Мордехай поселился в Москве. Политикой он не занимался, целые дни проводил в синагоге. Властям и это не понравилось: ”врага народа” опять схватили, совсем уже ни за что. В заключении, в психиатрической больнице, где он находился на принудительном лечении, рав Дубин и умер.
Говорят, перед смертью он просил об этом врача ־ и врач совершила великую мицву: вызвала евреев с воли и разрешила взять его тело.
Рава Мордехая похоронили в Туле. Этой награды он удостоился - люди знают, где его могила.
В январе семьдесят второго года мы получили разрешение на выезд в Израиль. Самолет вылетал из Москвы. А от Москвы до Тулы - рукой подать. Нам не хотелось уезжать, не простившись с могилой рава Дубина. Мы отправились в Тулу.
В те времена отъезжающим из Союза на так называемое постоянное жительство за границу полагалось сдать решительно все документы, так что у нас с собой не было ни одной официальной бумажки: носить наш единственный документ, визы, мы не решались - вдруг потеряются! Правда, ехать без документов тоже опасно - а ну как задержат! Могут и посадить, а пока будут не спеша разбираться, срок визы кончится. Боялись мы и слежки. Короче, ехали в большом напряжении.
Помню, часа в три ночи мы с Гитой добрались до кладбища. Я примерно представлял себе - мне объясняли - где находится могила, но снегу навалило много и разобрать было трудно. Мы постояли где-то рядом, помолились. Так мы простились с могилой рава Дубина.
Ни о чем в жизни нельзя сказать ”навсегда”. Или - ”никогда”. Жизнь непредсказуема, ничто не исключено. Спустя почти тридцать лет я еще дважды посетил могилу рава.
Мордехай Дубин бывал в Москве в доме моих родителей, любил беседовать с отцом. Потом его снова арестовали, посадили, он умер и был похоронен в Туле. Спустя время его перехоронили на еврейском кладбище в Малаховке (под Москвой).
Перехоронить его помог рав Тайц из Америки, двоюродный брат рава Ицхака.
Из рассказа Айзы Круглях
НЕОЖИДАННЫЕ НЕПРИЯТНОСТИ
За несколько недель до свадьбы я приехал в Куйбышев. В отличие от Казани, где синагога была запрещена и молились тайно, в Куйбышеве она была официально открыта. Я и в Казани каждый день посещал тайный молельный дом, что уж говорить про Куйбышев, где синагога действовала официально и где меня, как я полагал, никто не знает!
Рав Мордехай Дубин постоянно находился там, сидя над Талмудом. В день он обычно разбирал по три темы из разных разделов Гемары. Я занимался вместе с ним.
Свадьба была назначена на вторник. В четверг предыдущей недели переходил я улицу. Вдруг ко мне подходит милиционер:
- Гражданин, вы нарушили правила уличного движения.
Я удивился: я ведь не один перешел, и он никому замечания не сделал. Я ему даю не то полтинник, не то рубль - штраф. Он качает головой:
- Нет, пройдемте.
Я иду. Пришли, а на двери табличка: СМЕРШ (военная контрразведка - ”Смерть шпионам!”).
Ввели меня в комнату, посадили за стол. Допрашивали трое. Били по лицу изо всей силы. Очки сломали, чуть не выбили зубы. Очень сильно били.
- Что у тебя за дела, - как они выразились, - с фон Дубиным?
Я объясняю, что приехал из Казани, что там нет синагоги, а здесь есть. И хотя я учитель, но решил зайти в синагогу и там познакомился с Дубиным.
Тут они показывают мне номер телефона:
А это что?
Как он у них оказался - ума не приложу! Дело в том, что как-то я спросил у рава Дубина, не могу ли быть ему чем-то полезен. Он и попросил меня заказать для него телефонный разговор с сестрой, которая живет в Москве. Я и заказал.
Короче, увидел я этот номер и понял, что попался. Но я твердил свое: познакомился в синагоге и просто выполнил просьбу. Меня избили, отняли все, что было: записи, документы - и бросили в камеру.
Понятное дело, кинулись читать мои записи. Но там разобраться непросто: пишу я то на одной стороне листа, то на другой, то на полях, да к тому же на иврите. Назавтра опять приводят к следователям:
- Ты регулярно организуешь встречи с человеком, обозначенным в записях как ”НТТИ”.
Я понял, что они, вероятно, вызвали какого-то доносчика из синагоги и он им прочел ивритский текст.
- ”НТТИ”, - объяснил я, - на иврите ”натати”, означает ”я дал”. У евреев принято каждый день давать деньги для нуждающихся. Можете проверить - везде после ”НТТИ” стоит цифра: полтинник, или там тридцать копеек, или рубль.
Хорошо. С этим уладили. Тогда мне показывают другую запись. Тут я немного растерялся - чувствую: этого мне им никак не объяснить.
Надо сказать, что в Казани в синагоге было очень мало книг, но в Куйбышеве - уму непостижимо, сколько! Даже здесь, в иерусалимских синагогах, нет такого. Как они туда попали? Через беженцев - евреев из Литвы, из Латвии. Они умерли, их книги сдали в синагогу, и там оказалось много редких книг и рукописей.
Я нашел тут книгу, о которой слышал, но которой в Казани не видел. Написал ее рав Акива Эйгер (великий мудрец, живший в Германии примерно двести лет назад). Несколько тем из книги меня особенно заинтересовали, и я их законспектировал. Касались они расстояния, на которое разрешено удаляться от населенного пункта в субботу. Рав Эйгер обсуждает, как следует производить измерения, когда натыкаешься на гору. Об этих-то записях меня сейчас и спрашивали.
Я стал добросовестно объяснять. Поскольку рав Акива Эйгер обыкновенно задает вопросы к комментариям Раши и Тосафот к Талмуду, то следует объяснить мишну (она содержит исходное положение), потом Гемару (трактовки мудрецов эпохи Талмуда), потом надо рассказать, что говорит на данную тему Раши, потом изложить точку зрения Тосафот, потом сам вопрос рава Эйгера и, наконец, его ответ. Я говорил часа полтора, а то и два.
Ручаюсь вам, они даже мишну не поняли. Так и остались в убеждении, что я их обманываю. А потом позвонили куда-то. Слышу - речь обо мне: обсуждают, сколько мне дать - пятнадцать лет или только десять... Это у них, говорят, прием такой - запугать человека, чтобы добиться признания.
А ведь наступила пятница. Я думал о том, что будет с моей матерью, которая уже сидит на пароходе, и пароход должен прибыть в Куйбышев в воскресенье или понедельник (если ты сел на пароход, обслуживаемый нееврейским экипажем, заблаговременно, до субботы, то плыть в субботу разрешается). Мать едет на праздник, на свадьбу сына - и найдет его в тюрьме! А у нее порок сердца, и только что исполнился год со дня смерти отца. И я начинаю молиться Всевышнему, чтобы Он пожалел мою мать, говорю, что я у нее единственный сын, и если меня посадят, что с ней станет!
До сих пор не знаю, как и почему, но в пятницу под вечер меня неожиданно выпустили. Я еще успел забежать в синагогу на вечернюю молитву.
Свадьба состоялась вовремя.
Кстати. Я решил не рассказывать маме эту историю, но когда после свадьбы вернулся в Казань, наши соседки Файнштейн и Коган, которые всегда захаживали к маме, неожиданно спросили меня:
- Ицхак, что с тобой было в четверг без четверти пять?
- А что?
Они говорят:
- Мы сидели у вас, разговаривали. Вдруг мама вскакивает и начинает бегать по комнате: ”Ой, нехорошо с Ицхаком, нехорошо! Б-г знает, что будет!”
Мне вспомнилась история с пожаром. Я не выдержал и все рассказал.
ХУПА
Свадьба моя. состоялась в сорок пятом году, четырнадцатого элула. Реб Мордехай спросил, не боюсь ли я ставить хупу на улице: люди могут увидеть, а я только из-под ареста!
Надо вам сказать, что у евреев бракосочетание совершается под свадебным балдахином (хупой), причем у восточноевропейских евреев балдахин принято ставить под открытым небом. Обычай этот объясняют тем, что хупа под открытым небом символизирует пожелание: пусть потомство будет многочисленным, как звезды в небе.
Я говорю:
- Только на улице.
Так и сделали.
На свадьбе присутствовали два раввина: рав Куйбышева
Гита-Леа Зайдман, моя будущая жена, Штейнмардер (имени его я, к сожалению, не помню) и рав Иеошуа-Иеуда-Аейб Меирович из Литвы. Вместе со мной, женихом, у нас был миньян.
До сих пор помню речь реб Мордехая Дубина на этой свадьбе. Он привел известные слова из Талмуда:
- Шел путник по пустыне, и путь его был труден. Но вот набрел он на плодовое дерево. Стоит оно у чистого родника, и плоды его освежают. Поел путник плодов, напился воды и обращается к дереву: ”Дерево-дерево, какое тебе дать благословение? Чтобы ты росло у воды - ты и так растешь у воды. Чтоб плоды были хороши - они и так хороши. Я тебе дам благословение, чтобы все, что от тебя произрастет, было подобно тебе”.
Этого рав мне и пожелал: хороших детей, верных вере отцов. Что скажете? По-моему, сбылось.
У евреев принято после хупы семь вечеров подряд устраивать для молодоженов ”шева брахот” (семь благословений). Это праздничные трапезы, на которых молодым в присутствии миньяна дают семь традиционных благословений. У нас с женой ”шева брахот” не было ни разу.
Я должен был выйти на работу спустя три дня после свадьбы - ровно столько занимала дорога пароходом от Куйбышева до Казани, а это был самый дешевый вид транспорта. Если я не сяду на пароход в одиннадцать вечера в день свадьбы, то опоздаю и попаду под суд. (Тогда за опоздание на работу судили. В сорок втором, помню, я присутствовал на суде над учителем, которого уволили и судили за опоздание на десять минут. Таковы были сталинские законы.)
Сразу после свадьбы я уехал. Без жены, разумеется. Не думаете же вы, что советские власти сочли свадьбу достаточной причиной, чтобы прервать ее трудовую деятельность (Гита работала инженером-электриком на заводе)! Еле выхлопотали, чтобы жене разрешили хотя бы потом на день-два приехать в Казань. Спустя почти два месяца - в октябрьские праздники - жена приехала, провела у нас субботу и тут же должна была уехать.
Добиться, чтобы Гиту отпустили с работы для переезда ко мне в Казань, оказалось непросто. Помогли связи рава Дубина: он был знаком со Шломо Вовси - Соломоном Михоэлсом, ведущим актером и режиссером Еврейского театра, возглавлявшим в то время еще и Еврейский антифашистский комитет. Михоэлс похлопотал, и спустя неполный год после свадьбы Гиту отпустили. А в сорок восьмом году, как известно, Михоэлс по приказу Сталина был убит, и убийство выдали за ”гибель в автомобильной катастрофе”.
Семья моей жены
ДОМ ЗАЙДМАНОВ
С моим тестем реб Биньямином-Ицхаком Зайдманом я не имел чести познакомиться лично. Он сидел, когда мы с его старшей дочерью поженились, а когда он вышел на поселение, - сидел я. Когда я вышел, он находился в ссылке и умер как раз, когда ссылка подошла к концу. Так мы и не успели встретиться.
Я много слышал о реб Биньямине от людей, чьим отзывам можно доверять. Они были о нем самого высокого мнения. Рав Аарон Рабинович, женатый на средней дочери реб Биньямина, в предисловии к книге своего отца ”Биньян Шломо” (его отец, раввин, был убит немцами в Польше) пишет:
”Святым долгом почитаю вспомнить с хвалой моего тестя - реб Биньямина-Ицхака Зайдмана, истинного праведника, делавшего добро людям, и мою тещу - Фруму-Малку, дом которых был всегда открыт для всех, кто нуждался. Б-г дал мне обрести благосклонность в их глазах и в глазах их дочери Кели, и я взял ее в жены. Так же бесконечна была их любовь и преданность моему брату Шолому-Мордехаю, который был в таком же положении, что и я, а потом взял их дочь Айну в жены”.
Рассказ о том, в каком положении находились братья Рабиновичи до встречи с семьей Зайдманов, еще впереди, а пока поговорим о реб Биньямине.
Реб Биньямин родился в Брест-Литовске. Совсем юным он остался сиротой. Попал в Самару (позже, как я уже говорил, - Куйбышев). Началась революция, и границу закрыли. Так он навсегда был оторван от своих близких. Вскоре он женился на Фруме-Малке. У них было четверо детей - три дочери и сын.
Реб Биньямин-Ицхак был заготовщик - вырезал из кожи заготовки для обуви. Чтобы не работать в субботу, он всю неделю работал день и ночь, не высыпался, и от этого глаза у него всегда были воспалены и болели. Моя жена, его старшая дочь, рассказывала, что закапывать отцу капли в глаза обычно было ее обязанностью.
Почему он столько работал? Потому что должен был зарабатывать не только на свою семью - он кормил еще многих. Во время войны, когда люди умирали с голоду, у него за субботним столом сидели десять-одиннадцать человек из тех, которым нечего есть. В его доме всем давали кусок хлеба и тарелку супа. Каждую пятницу его жена варила котел картошки и относила в синагогу - беженцам.
Приехав на свадьбу, я остановился у них в доме (больше негде было) и видел людей, которые там бывали. Один из них, рав Иеошуа-Иеуда-Лейб Меирович, о котором я уже упоминал (он был свидетелем на моей свадьбе), знал наизусть весь Талмуд с Раши и Тосафот, все труды Рамбама и ”Шулхан арух”. Он хранил в памяти десятитомную энциклопедию ”Сдей хемед” (эту энциклопедию законов алахи составил во второй половине прошлого - девятнадцатого - века великий сефардский раввин, мудрец и праведник рав Хаим-Хизкияу Медини, и она по сей день верно служит всем раввинам). В разговоре выяснилось, что в Литве рав Меирович учился у рава Мордехая Рабиновича, брата моей бабушки со стороны матери.
Откуда мне известно, что он все знал на память? Я как-то слышал, что имя Ибн-Эзры, одного из крупнейших комментаторов Торы, упоминается в Тосафот только дважды. Я его спрашиваю:
- Где именно?
Он мгновенно отвечает:
- Кидушин, лист тридцать семь ”бет” (в Талмуде нумеруются листы, а не страницы, при этом стороны листа отмечаются буквами ”алеф” и ”бет”).
И читает весь отрывок из Тосафот наизусть, приводя все высказывания поименно, а потом так же спокойно переходит ко второму отрывку.
Так он отвечал на любой вопрос из Талмуда, о чем ни спроси.
Рав Мордехай Рабинович, дядя моей мамы, у которого учился рав Меирович
Или из ”Сдей хемед”. Например: ”Где в ”Сдей хемед” встречаются имена моих дедушек?” Он сразу говорил, где упоминается дедушка из Рагувы, где дедушка из Режицы. И этот человек ходил зимой в рваных ботинках и был счастлив, что в субботу у него есть тарелка супа в доме моего тестя.
В этот дом приходили многие евреи, и среди них особенно много беженцев из Польши. Власти, которым это не нравилось, ловко использовали обстоятельства. Когда Советы решили сформировать новое, послушное, правительство Польши, против беженцев из Польши сфабриковали обвинение в заговоре. Заявили, что в Куйбышеве действует польский подпольный центр во главе с габаем синагоги и моим тестем (вероятно, сыграло роль еще и то, что в доме у тестя жил рав Мордехай Дубин). Арестовали человек пятнадцать, причем ”заговорщики” были все как один евреи. Сначала взяли моего будущего тестя и его зятя Аарона, потом - уже после моей женитьбы - рава Дубина и других...
Один из арестованных с этой группой жив, он сейчас в Тель-Авиве. Помню, он сказал мне хорошее слово - привел стих из ”Теилим”: ”Верил я, что еще сумею рассказать, как я страдал” (116:10). Так оно и вышло.
В течение года до ареста реб Биньямина мою будущую жену вызывали на допросы в НКВД. Каждый день она вставала в пять утра и шла на завод, где работала по четырнадцать-пятнадцать часов. И каждую ночь после работы ее ”приглашали на собеседование” - так любезно они это называли. С Гиты взяли подписку, что она никому ничего не расскажет. Она, однако, посоветовалась с Дубиным. Дубин ее научил:
- Ничего там не говори! Скажешь одно, помянут другое. Одно только слово, - объяснял он, ־ ”это сосед” или ”это брат” - и тебе уже не дадут остановиться: ты сидишь, и с тобой все сидят. На все вопросы отвечай ”не знаю”. Это единственный выход.
Гиту сажали на табурет без спинки, напротив садились несколько человек и начинали задавать вопросы. Следователи выходили, менялись, а она все сидела, по многу часов. Ее спрашивали:
- Почему в доме столько народу, кто приходит, о чем говорят?
На все вопросы она отвечала, что приходит с работы усталая и ложится спать - ничего не знает.
Гита рассказывала: напряжение было такое, что однажды на исходе ночи она вышла с допроса и в городе, где родилась, не узнала улицы. Смотрела вокруг и не знала, куда идти. Вышел следователь и спрашивает:
- Что ты ищешь?
- Не знаю, где дом.
Так он ей показал, в какую сторону идти.
Гита говорила, что целью властей было объявить о формировании нового правительства Польши в связи с арестом прежнего.
А прежним (незаконным ”польским правительством в изгнании”) они изобразили беженцев, собравшихся в доме Зайдманов. Все это происходило под конец войны, в сорок четвертом ־ сорок пятом году. Во время войны избегали открытой травли евреев, вели другую игру - хотели получить американскую помощь. А в конце войны уже было можно - помощь выторговали.
Все эти тяжелые дни, как мне потом рассказывали домашние, Гита не ела и не спала. С тех пор, если она нервничала, у нее отнималась спина. Для нее было мучением сидеть на стуле без спинки.
ОТЕЦ И ДОЧЬ
Только тот, кто знает тогдашнюю советскую жизнь, может до конца понять, каким надо быть человеком, чтобы воспитать настоящей еврейкой девочку, которая родилась в двадцать первом году в городе Самаре.
Когда Гита-Лея была маленькая, отец нанял для нее учителя, и тот научил ее молитвам на иврите и немножко - алахе.
Сам реб Биньямин учился только в Бресте, но все, что он успел узнать до своих семнадцати лет, соблюдал и сумел передать дочерям и сыну.
Тогда в Советской России еще были еврейские школы. Курировала их Евсекция, преподавание велось на идиш. Отец предпочел отдать Гиту в русскую школу. Он объяснил дочке:
- Если я отдам тебя ”им”, они будут тебе хозяевами, будешь их, а не моя. А если в русскую школу - я буду тебе хозяин. И если ты принесешь в класс мацу, никто не будет знать, что это маца. А там - все будут знать.
В школах Евсекции специально заставляли детей делать всякие гадости в еврейские праздники. Слышал я историю, как однажды в Иом-Кипур в таком ”еврейском” классе учительница подзадоривала учеников, прививая им ”свободомыслие”:
- Эти религиозные сегодня молятся и постятся. А мы ну-ка покажем Б-гу фигу!
Один из учеников возьми и спроси:
- Не понимаю. Вы ведь говорите, что. Его нет. Кому же фигу показывать?
Гита была любимая дочь отца. Но когда во время войны у нее порвалось платье и она попросила новое, отец раскричался: ”Людям есть нечего, а ты хочешь новое платье?” У него были деньги, но он ничего не покупал детям. При любой возможности он покупал еду и отдавал голодным.
Реб Биньямин мечтал, как поедет вместе с Гитой в родные края, в Польшу, покажет ей свой город, посетит могилу родителей. К счастью, они еще не успели поехать, как началась Вторая мировая война и Германия напала на Польшу. Окажись они к тому времени в Бресте - попали бы к немцам.
По окончании срока заключения тестя выслали в Казахстан. Последние свои годы он жил в Кзыл-Орде. Когда у нас родился сын, мы телеграммой пригласили его на брит-милу. Он, честный старый человек, шестидесяти восьми лет, пошел просить разрешения уехать на один час плюс два дня дороги - только на один час: он приедет, посмотрит на внука и уедет. Не разрешили, подлецы. Так я его ни разу и не увидел.
МОЯ ТЕЩА, БЛАГОСЛОВЕННА ЕЕ ПАМЯТЬ
Рав Дубин сосватал всех дочерей моего тестя: среднюю сестру, Келю, - Аарону Рабиновичу, Дину - его брату Шолому, Гиту сосватал мне.
Братьев Рабиновичей в дом Зайдманов привела война. Отсидев свои два года за нелегальный переход польско-советской границы, Аарон приехал в Куйбышев и попал к Зайдманам (Шолом тогда отсутствовал - тоже оказался за решеткой). К моменту возвращения Шолома из лагеря Аарон был уже женат на средней дочери реб Биньямина.
Выйдя из лагеря, Шолом приехал к Зайдманам. Он говорил, что Фрума-Малка всегда относилась к нему как мать...
Из Куйбышева Шолом рассчитывал вернуться в Польшу. Рав Дубин, который жил еще у Зайдманов, говорит Шолому:
- Тебе же надо жениться. Зачем искать в Польше? Вот сидит девушка. Даю тебе пять минут, подумай.
Шолом думал пять минут. Шидух состоялся. Дина, младшая дочь Зайдманов, стала его женой. Теперь у него уже внуки, и замечательные.
После войны выходцам из Польши какое-то время разрешали покинуть СССР, и Шолом немедленно воспользовался этой возможностью. Постранствовав в поисках места, он с семьей в конце концов поселился в Нью-Йорке.
Я успел познакомиться с Шоломом до отъезда. Должен сказать здесь: это человек редкой правдивости.
Незадолго до смерти Сталина Аарон получил третий срок (об этом - ниже). И кто же вытащил его из лагеря? Фрума-Малка. Она поехала в Сибирь и оставалась там, пока не добилась: Аарона актировали, то есть освободили по состоянию здоровья. (Это произошло уже после смерти Сталина.)
Вернулась Фрума-Малка с обмороженными ногами. Спустя какое-то время - в Ташкенте - у нее началось ухудшение, в больницу она ни за что не хотела - были у нее причины - и ей прямо у нас дома ампутировали несколько пальцев. (Сделал это врач Шимунов, которому я обязан глубокой благодарностью: он бесплатно лечил Бенциона еще в те времена в Ташкенте, когда у нас не было прописки и ни одна поликлиника не хотела принимать мальчика, а денег на частного врача у нас не было. Сейчас Шимунов живет в Иерусалиме.)
...Где-то в Казахстане вскоре после войны умерла супружеская пара - высланные из Ленинграда муж с женой, честные религиозные люди. Их арестовали и выслали в Казахстан только за то, что они тайно обучали кого-то религии. Хоронить их было некому, и какие-то знакомые Фрумы-Малки телеграммой сообщили ей об этом. Почему они сами не взялись за это? Видно, не по плечу было.
А Фруме-Малке все было по плечу. Она бросила все дела, взяла с собой одного еврея из погребального общества и отправилась в неблизкий путь.
Позже я встретился с братом той погибшей женщины. Он рассказывал, что когда приехал туда, его сестра с мужем уже были похоронены - как надо, по-еврейски. Это Фрума-Малка сделала. Она была активнее всех в семье. Она была огонь!
ДЕНЬГИ &“С НЕБА”
Происшествие, о котором ниже, тоже связано с Фрумой-Малкой. Может, оно и случилось-то со мной из-за, а точнее - ради нее.
Дело было в августе, вскоре после истории с похоронами в Казахстане. Фрума-Малка гостила у нас перед тем как уехать в Кзыл-Орду к мужу. Пора было уже покупать билет, а денег - ни копейки (на поездку на похороны, понятное дело, сразу нашлись, а тут - где возьмешь?). Деньги за отпуск я получал в июне, и мы их, естественно, прожили. Я давал уроки, подрабатывал, но в августе все сдали экзамены и частные уроки кончились. Как быть? Я говорю:
- Б-г поможет.
Теща нервничает:
- Как Он поможет? С неба утром сбросит деньги?
Я говорю:
- Да, сбросит с неба, - и ушел.
Иду и думаю - где искать работу? Последние дни перед началом учебного года. Куда податься? Заглянул в гороно к начальнику отдела кадров - он с кем-то беседует. Заметил меня и говорит:
- Зильбер, заходите! Вы свободны сегодня?
- Да.
- Вот тут товарищу надо сдать какой-то экзамен, идите с ним.
Фамилии этого ”товарища” - Ермольчик - мне не забыть. Иду я с ним и чувствую что-то неладное: очень уж странно он переглядывается с людьми на улице. Стоит на углу молоденькая девушка, беззаботно глазеет на прохожих. Увидела моего спутника - и подмигнула незаметно. Чудно! Ну никак она ему в знакомые не годится! Старик-татарин с седой бородой, с виду такой серьезный, кивает тайком. Что у них может быть общего? Неужели агенты? В жизни бы не подумал, что агенты такие бывают. А тут мне и вовсе дурно становится: он явно держит путь на Черное озеро (в Казани Черное озеро - как Лубянка в Москве, главное управление у чекистов). Ловушка?!
Пришли на Черное озеро - перед ним все двери открываются. Входим без всяких пропусков к самому главному начальнику, тоже Ермольчику (родственник, видно), и бандит какой-то, длинный, с револьвером на боку, тоже входит. Мне показывают на него и говорят:
- Этот наш сотрудник успешно трудится, и мы хотим повысить его в звании. Но ему не хватает образования. Надо, чтобы он сдал экзамены хотя бы за восемь классов. Проверьте, что он знает, и подготовьте его - за деньгами мы не постоим.
Я, конечно, ни слову не поверил. А вы бы поверили? Я решил, что меня хотят подловить на чем-то. Или просто задержать без лишнего шума.
”Ученик” отвел меня в Красный уголок (что-то вроде комнаты отдыха в тогдашних учреждениях и учебных заведениях; непременное украшение - бюсты и портреты вождей; всегда полно марксистской литературы). Сели ”заниматься”.
Страшно было сидеть: все время входили и выходили эти убийцы. Они расстреливали людей и делали все, что хотели, и это было видно по их лицам. Вы знаете, ведь это по лицу видно. Звериные были лица. Они смотрели на нас, а я опустил голову и уже не хотел поднимать. Но я - что я мог поделать?
Начал его учить. Проверил, что он знает по алгебре, объяснил какие-то основы, затем немного физики, потом русский язык. Взял статью из газеты, диктую, исправляю ошибки. Работаю, в общем. Так и сижу с опущенной головой, ни на кого не смотрю ־ не мог смотреть! Вдруг слышу: - Достаточно!
Вижу, возле стола стоят трое, смотрят, как я с ним занимаюсь, и им это нравится. Меня опять ведут к начальнику Ермольчику, выписывают ведомость на оплату - сто пятьдесят рублей: шесть часов по двадцать пять рублей. Тогда это были большие деньги. Говорят: - Послезавтра придете за деньгами.
Но сразу по лицу увидели, что не приду.
- Ну ладно, - говорит Ермольчик.
Вызывает какого-то бандита:
- У тебя деньги есть, я знаю, ты сегодня получил. Дай сто пятьдесят рублей.
Прихожу домой, а там уже волнуются: я ведь как ушел с утра на молитву, так и пропал. Протягиваю деньги. Они спрашивают:
- Откуда?
Я говорю:
- Упали с неба.
- Как это ”с неба”?
- А так. НКВД дал!
ОБ ИМЕНАХ
Моя младшая дочь родилась в год, когда теща умерла, и я назвал ее Фрума-Малка. Она тоже боевая.
А когда мы ждали первого ребенка, то почему-то были уверены, что это мальчик, и хотели дать ему имя покойного деда, моего отца. Вдруг ночью в субботу, десятого тамуза, мама часа в три встает, подходит ко мне (я еще не ложился) и говорит, что к ней во сне пришла ее мать. Такого раньше не бывало, и мама поняла, что, наверно, родится девочка и мать хочет, чтобы ребенку дали ее имя. Наутро родилась дочь, и мы назвали ее именем прабабушки - Сара.
Имя - это не просто так.
Возьмите для примера имена двух царей: Шломо и Хизкияу. В имени ”Шломо” мы угадываем сразу два корня ־ мир (шалом) и цельный (шалем). И действительно ־ в царствование мудрого Шломо евреи процветали и не знали войны. Имя Хизкияу можно перевести как ”моя сила - Б-г”, в смысле - вера в Б-га. И действительно, вступив на царствование, когда в стране царил разброд и духовный упадок, царь Хизкияу вернул еврейский народ к вере.
Или, скажем, название города Кирьят-Арба (Город четырех). Оно дано в честь одного великана и трех его сыновей, которые там жили. Но великана этого уже давно нет, и никто о нем не помнит. А имя установилось навеки, и не случайно - в пещере Махпела на территории Кирьят-Арбы похоронены четыре супружеские пары праведников: Адам и Хава, Авраам и Сара, Ицхак и Ривка, Яаков и Лея. Дали имя по одной причине, но получилось - по другой...
А вот вам еще история о дедах и внуках. Где-то в тридцатые годы один куйбышевский еврей как-то ”пошутил” при всех, обращаясь к моему тестю: ”Ну, Биньямин, когда начнешь свинину есть?”
Много лет спустя этот человек приехал в Казань и зашел к нам, чтобы повидаться с Гитой. Нашему Бенчику было тогда пять лет. Он вбежал в комнату, встал в сторонке и начал молиться. Человек этот глазам своим не поверил: он дразнил деда, не пора ли, мол, есть трефное и покончить с глупостями, а тут внук, маленький мальчик, молится вдумчиво, наизусть. И гость сказал: ”Вот таких внуков я хочу иметь!” Значит, уже изменился.
ААРОН РАБИНОВИЧ, МУЖ КЕЛИ
В начале войны, как я уже говорил, братья Аарон и Шолом Рабиновичи бежали из Польши от немцев в Россию. А Россия встретила их тюрьмами да лагерями.
Шолом оказался в России с польскими военными частями, Аарон же благополучно перебрался через границу нелегалом. А кто его посадил? Еврейский парнишка.
Свежеиспеченный комсомолец из Польши заметил перебежчика и сообщил советским властям. Его уговаривали евреи: ״Что ты делаешь, его же посадят!” Но он был ”принципиальный” и его было не убедить.
Сидел Аарон в очень тяжелых условиях, далеко на Севере. Вышел на свободу уже после ареста Шолома, но ненадолго.
Вместе с тестем и всеми людьми в доме Зайдманов, где он в числе многих бездомных ночевал и где потом стал членом семьи, он был обвинен в ”польском заговоре” и снова попал в лагерь - на десять лет. Он был арестован спустя три месяца после свадьбы.
Польским евреям-беженцам жилось в Куйбышеве трудно, и смертность среди них была ужасно высокая (помните о книгах, что после них остались?). Между двумя своими отсидками рав Аарон помогал им, чем мог, навещал в больницах, занимался организацией похорон. Кстати, в дом приходили поесть и переночевать не только польские беженцы, но и ленинградские, московские и какие хотите...
Отсидев десять лет, Аарон получил еще десятку. Было это незадолго до смерти Сталина.
Аарон - человек эмоциональный и открытый - мало заботился об осторожности. Уже перед концом срока он вышел в лагере на улицу и давай кричать:
- Долой бандита Сталина! Хватит мучить народ! Бей энкаведистов!
Почему он это сделал, не знаю. Вообще-то еврейский закон рискованных действий без необходимости не разрешает. Я никогда не смел его спрашивать, почему он так делал. Может, он не специально для этого на улицу вышел, а там что-то произошло, и он не сдержался. Как-никак, не при советской власти вырос! С другой стороны, десять лет лагерей многому научат... Так что не знаю. Он и в Узбекистане, когда из лагеря вышел, так же делал. Мне пришлось даже объяснять людям, что это не провокация, а всерьез.
Он и в Израиле, после окунания в миквэ (некоторые люди в этот момент высказывают какие-то пожелания), выкрикивал страшные проклятия коммунистам. Тут его, конечно, можно понять: человек находится среди евреев - хочет высказать то, что на душе накипело. Лагерь пережить - такое не забывается.
В пятьдесят шестом году реб Ицхак приехал в Самарканд, где я тогда жил, проведать своего родственника Аарона Рабиновича...
3а еврейские дела рава Аарона отправили на десять лет в Сибирь. На допросе следователь ему сказал:
- Молодой человек, ты сними талис котя (шалит катан), ты что в таком виде сидишь передо мной!
- Я?! Чтобы я снял талис котя?!
И он закатил следователю такую оплеуху, что тот свалился с табуретки, а его фуражка с кокардой полетела на пол.
Представляете себе, как Аарона избили после этою! Мне рассказал об этом один врач-еврей, к которому привезли Аарона после побоев. Он ею лечил и перевязывал. Много лет спустя я прочел книгу бывшего заключенною (не помню ни имени автора, ни названия книги), где был подробно описан этот эпизод, но без имен.
Выйдя на свободу, Аарон поселился в Самарканде. Там он был основным организатором веселья в праздник Симхат-Тора, потому что в те тяжелые годы люди боялись властей, а он держал всю синагогу до четырех утра и все вокруг нею собирались...
Так что, с одной стороны, люди были довольны. Но, с другой стороны, он был такой человек, что мог на улице открыто закричать: ”Арлой сталинских бандитов!״
Люди говорили: ”Кто может себе такое позволить...״ - и сторонились ею. Опасались ею общества: власти глаз с нею не спускали. Реб Ицхак был очень близок с ним, опекал и помогал ему, старался как-то усмирить ею. Только после приезда реб Ицхака ситуация изменилась: он сумел убедить людей, что это особый человек, и навел порядок.
Из рассказа Яакова Лернера, мужа Софы Лернер (Кругляк)
Так или иначе, но он что считал нужным, то и выкрикнул. Все немедленно разбежались, чтобы не слышать. А то ведь "слышал - не донес” - тоже статья. Короче, накинули десятку, спасибо ־ не расстреляли.
Как я уже говорил, вытащила его из лагеря Фрума-Малка. Аарон поселился в Самарканде.
Келя ждала мужа все десять лет. Она была молодая, красивая. Чтобы избежать ухаживаний и опасных разговоров об отсутствующем муже, она не стала устраиваться на работу, а подрабатывала вместе с матерью как могла. Она была беременна, когда мужа арестовали, и теперь они с дочерью жили очень бедно.
В Израиле, куда они приехали в пятидесятые годы, когда Аарон вышел на свободу, у них родились еще дети, Барух а-Шем. Здесь они тоже жили бедно. Но каждую субботу рав. Аарон собирал соседских ребятишек и занимался с ними ,’Пиркей авот” (”Поучениями отцов”), а Келя оделяла всех конфетами, как принято в субботу после занятий.
Келя была человек незаурядный, я другого такого человека не встречал. Она не знала, что такое обида. Никогда ни на кого не сердилась. И была тверда, как железо.
Келя умерла молодой, в сорок девять лет.
Выйдя из советского лагеря и приехав в Израиль, отец, благословенна его память, не перестал заботиться о евреях, оставшихся в России. Он никогда не забывал своих тамошних мучений, добывания мацы на Песах, на седер - первую ночь Песах. Память об этом заставляла его и маму, мир их душам, изо всех сил хлопотать, чтобы каждый ״русский” еврей, чей адрес удавалось узнать, - кто бы этот еврей ни был - мог в Песах выполнить заповедь есть мацу. Призывая людей в синагогах и ешивах давать пожертвования на мацу, отец убеждал: "Туда, где лежит маца, хамец не войдет".
Без малого двадцать лет при приближении Песах маму, мир ее душе, можно было видеть на центральном почтамте на улице Яффо в Иерусалиме. Она проводила там целые дни, с утра до вечера, заполняя бланки, стоя в очередях у окошечек, носясь туда-сюда, - все "ради заповеди мацы", не беря себе ни гроша за эти хлопоты. Она делала это самым буквальным образом во имя Небес.
Из рассказа рава Бинъямина Рабиновича, старшего сына рава Карона Рабиновича
Я уже говорил, что рав Аарон издал книгу своего отца ־ ”Биньян Шломо”. В предисловии к ней рав Аарон вспоминает всех родных: и реб Биньямина, и брата, и меня. О Келе он пишет: ”Моя жена Келя родилась в Красной России, но не пошла путем коммунистов. Она была глубоко верующая еврейская девушка, очень обаятельная, и она стала моей женой. Сразу после свадьбы меня арестовали... Все эти годы она меня ждала. Потом, когда мы удостоились чести поселиться в Эрец-Исраэль и столкнулись с трудностями абсорбции, она все приняла с пониманием. Келя была праведница в полном смысле этого слова. К моему большому горю, жизнь ее оборвалась рано, и в лучшие годы она ушла на покой”.
Рав Аарон провел в заключении в общей сложности двенадцать лет, и за все это время ни разу не нарушил субботу и не съел трефного. Такое нечасто встретишь.
Когда я женился на Гите и мы с равом Аароном породнились, мне сообщили, что он просит прислать ему в лагерь шестой раздел Мишны - ”Тоорот” и книгу ”Тания”. Как я это сделал, говорить не буду, но обе книги он получил. Мишнает Аарон выучил наизусть.
Много всякого случалось с равом Аароном в лагерях.
Сидел он в Долинке, далеко на севере. Готовясь к Песах, он подбирал зернышки овса, которые падают на землю, когда кормят лошадей. Он сумел собрать примерно полстакана, растолок зерна камнями и получил муку. Потом договорился как-то в котельной -и испек лепешку мацы. Кезаит (объем размером с маслину; для Седер Песах это минимальная норма) мацы на первую пасхальную ночь. На такой объем можно произнести благословение.
Рав Аарон берег ее как величайшую драгоценность, носил с собой вплоть до праздничной трапезы, чтобы не украли...
Второй раз, рассказал мне рав Аарон, он набрал овса, чтобы отметить праздник (не помню, Шавуот или Рош-а-Шана): в праздник человек должен доставить себе какое-то удовольствие. Рав Аарон сварил этот овес все в той же котельной.
А надо вам сказать, что у них в лагере был свой порядок: время от времени каждый заключенный обязан был подписать бумагу, в которой удостоверяется, по какой статье и по какому делу он сидит. Такой вот ”мишугас” - заскок, говоря по-русски. На этот раз лагерь выгнали на улицу для подписывания, как нарочно, в первый день праздника (он выпал на четверг). Рав Аарон вышел, прихватив кружку со своим овсом. Стоит он, держит кружку в руке. Все подписались, он не подписывается. Подошел начальник и ударил его - за то, что он не подписался. Кружка выпала, и все пролилось. Ну, хорошо. Назавтра опять собирают всех: кто еще не подписал - пусть немедленно подпишет. Он говорит:
- Сегодня опять праздник.
- Как так?!
На следующий день - тот же разговор:
- А третий день что?
- Суббота
Так он и не подписал! И все-таки остался жив.
У сына рава Аарона хранится талит катан, который рав смастерил себе в лагере. Он сшит из сотни лоскутков и обрывков. Я еще помню этот талит - страшно было глянуть на него.
Кроме талита, я до недавнего времени хранил отцовское пальто, заплата на заплате.
Из рассказа рава Биньямина Рабиновича, старшего сына рава Аарона Рабиновича
Все молодые годы рав Аарон провел за проволокой...
Вся наша семья прошла через тюрьму.
Бриты в Казани
РАВ ШЛОМО БОКОВ
В те времена, о которых я рассказываю, рав Шломо Боков, моэль из Саратова, был уже человек немолодой. Три его сына погибли на фронте, забота о внуках (все внуки жили в доме деда - почему, могу только догадываться) легла на старика и его жену. Жили трудно. Но когда раву сообщали, что надо сделать ребенку брит-милу, он бросал все свои дела и ехал, куда надо.
В Казани бриты делали нечасто (если учесть, что евреев было несколько тысяч), а поскольку город был бедный и люди не могли в одиночку осилить покупку билета моэлю, приходилось ждать три-четыре месяца, пока не соберется три брита.
И вот в сорок девятом году рав Шломо приехал в Казань, сделал несколько бритов и уже собирался на вокзал, когда узнал, что у меня родился сын. Рав тут же сдал билет и неделю ждал в Казани брит-милы, оставив жену со всеми внуками. Когда наступил день обрезания, рав сказал, что ждал такого брита двадцать пять лет.
Дело в том, что в двадцать четвертом году ввели закон, по которому рожениц выписывали из роддома не раньше чем на девятый день (полагаю, не обошлось без вездесущей Евсекции), и четверть века не было у рава ни одного брита на восьмой день, как предписано Торой.
Как мне удалось добиться, чтобы Гиту выпустили из роддома на восьмой день?
Жена министра здравоохранения Софья Иосифовна Кошкина, еврейка, врач-гинеколог по профессии, занимала видный пост в министерстве. Я обратился к ней. Я не знал, что она за человек, донесет или нет, но решил: попробую. Зайду в кабинет, увижу ее
- и пойму.
Вошел и говорю:
- У меня к вам просьба. Я еврей, у меня родился сын, и я хочу, чтобы жену выписали из больницы на восьмой день.
Она говорит:
- Зачем?
Я объяснил, что Б-г приказал на восьмой день делать обрезание, а рожениц отпускают на девятый.
Софья Иосифовна записала номер роддома. На восьмой день я пошел к соседу, попросил приготовить все необходимое, пригласил друзей, еще не зная, выпишут жену или нет. На всякий случай решил быть готовым. В два часа ее выпустили, и брит состоялся.
После этого еще один еврей тоже добился выписки вовремя, и у рава Шломо Бокова в Казани была еще брит-мила на восьмой день.
Я пришел поблагодарить Софью Иосифовну: ”Вы сделали мицву - дело, угодное Б-гу”. Она заплакала: ”Я знаю, что такое мицва. Но чего стоит мицва женщины, которая замужем за неевреем?”
Много всякого повидал рав Шломо. Он рассказывал, что приехал как-то на брит-милу в Чувашию, в город Алатырь, и застал семью сидящей ”шива” - по внезапно умершему отцу новорожденного мальчика. Мать и не думает о брит-миле: ”Какая брит-мила отца нет!” Что в такой момент скажешь? Он собрался было уходить. Но тут вмешалась девочка, сестра малыша:
- Мама, ну почему? Почему ты отказываешься? Отец так этого хотел! Надо сделать!
И мать согласилась.
Умер рав Боков в Куйбышеве. Кажется, в пятьдесят первом году, точно не знаю - я в то время сидел и узнал о его смерти позже. Как мне рассказали, он поехал делать брит-милу, в дороге ему стало плохо. Едва добрался до синагоги, прилег на скамью ־ и умер.
Это произошло в пятницу, зимой, когда день кончается рано. В субботу хоронить нельзя. Держать тело в синагоге - нежелательно: коаним не смогут войти (им нельзя находиться под одной крышей с умершим). Надо успеть похоронить до наступления субботы...
Волокиты с похоронами всегда хватает, а тут - пошли на кладбище, смотритель говорит:
- Есть одно готовое место - вчера заказали, но пока никто не пришел.
Подождали, сколько можно, а потом рава Шломо Бокова, благословенна его память, похоронили.
РАВ АВРОМ-ДОВИД БАРОН, МОЭЛЬ ИЗ ТАРТУ
Я уже говорил, что и во время войны в Казань время от времени приезжал моэль, реб Авром-Довид Барон. Он был из эстонского города Тарту, но в начале войны эвакуировался с семьей в Чувашию, в Алатырь, откуда к нам и приезжал. Однако, как вы уже знаете, в войну поездки из города в город без специального вызова были невозможны. А моэль нужен. Как быть?
Мне стало известно, что Финансово-экономическому техникуму, где я в свое время работал, требуется бухгалтер. Я предложил: ”У меня есть для вас подходящий бухгалтер” - и получил на него соответствующий вызов.
Моэль приехал, выполнил обрезания. Надо возвращаться. Но как? Я посоветовал ему пойти в этот техникум и попытаться поработать. Его взяли было, но он слабо знал русский и ему скоро отказали. Он попросил бумагу, что ему разрешено вернуться назад, и благополучно уехал.
После войны реб Барон вернулся в Тарту, где при советской власти не стало ни синагоги, ни миквэ, ни кашерного мяса. Реб Барон собирал у себя миньян по субботам и праздникам и, будучи не только моэлем, но и шохетом, обеспечивал мясом свою и еще несколько семей. И детей воспитал евреями.
Когда старший сын реб Барона начал задумываться над тем, какую профессию выбрать, чтобы в будущем без помех соблюдать субботу, отец рассказал ему обо мне: мол, живет в Казани математик, соблюдающий субботу. Паренек и говорит: ”Решено. Я стану большим математиком, профессором. И буду соблюдать субботу. Беру на себя такое обязательство”. И он действительно стал крупным математиком. Сегодня он профессор университета имени Бар-Илана в Израиле.
Честно говоря, не помню, чтобы я обязался стать ”большим математиком”, - в математике я был не силен: во втором классе получил по арифметике переэкзаменовку, в третьем - дополнительную работу на лето, разве что в пятом начал что-то понимать. Но вперед не слишком продвинулся, потому что в шестом образование мое надолго прервалось.
Мне было двенадцать лет, когда началась война. Из Эстонии, которая примерно за год до того стала советской, мы эвакуировались в Чувашию. В Чувашии я пошел не в седьмой класс, а на работу - другой. возможности не нарушать субботу не нашел. Работал в часовой мастерской. Это стало моей профессией на долгие годы, в общей сложности на одиннадцать лет.
Вернувшись после войны в Эстонию, я через полгода снова стал часовщиком: работал на так называемой ”точке”, принадлежавшей большому комбинату. Комбинат разбросал по городу множество ремонтных ”точек”, где посменно работали два человека. Мы с напарником-эстонцем наладили отличную ”систему”: он выходил
на работу по субботам, а я - по выходным дням, в воскресенье. Такое благополучие держалось несколько лет.
В городе открылась вечерняя школа. Учились в ней рабочие да несколько молодых офицеров, парней без образования, получавших офицерское звание на фронте, когда командиры один за другим выбывали из строя. В школе занимались всего четыре дня в неделю, суббота в их число не входила, и я пошел учиться.
Я проучился в ” вечерке” года два, когда пошли paзгoвopы, что комбинат собирается объединить ”точки” в одну мастерскую. Что делать? В такой мастерской свои порядки уже не установишь. Надо уходить. Куда?
Тут я вспомнил, как рав Ицхак говорил моему отцу, что лучшая специальность для шмират шабат - соблюдения субботы атематика.
”Вечерку ” я закончил еще в качестве часовщика, успел. Поступил в университет, закончил с отличием. Потом - аспирантура: единственный еврей в группе, я получил единственное вакантное место в аспирантуре - шабат помог. Защитил диссертацию. Неожиданно для себя стал доцентом: я-то ведь думал, что буду школьным учителем.
Университетским преподавателям предлагали высказать свои пожелания при составлении расписания лекций, и я с календарем в руках продумывал его на полгода вперед, заготовляя отговорки, почему беру именно эти дни, а не другие. Но однажды, когда Рош-а-шана пришелся на четверг и пятницу, я не нашел решения.
Объяснить отсутствие лекций три дня подряд (два дня Рош-а-шана и в субботу) было невозможно. А ведь потом еще следуют Йом-Кипур и Суккот! Никакие математические выкладки не помогали, как ни комбинируй. И тут произошло что-то совершенно неожиданное. Ко мне подошел коллега, известный тартуский профессор, и попросил помочь: он уезжает на семинар и хотел бы поменяться днями лекций. Я изобразил сомнение: трудновато, мол. Но ради тебя сделаю! И отдал ему свои лекционные часы в Рош-а-Шана, Йом-Кипур, Суккот и Шмини-Ацерет. Так Б-г меня выручил.
В Израиле я стал, как здесь говорят, полным профессором. Но и сегодня "большим математиком” себя не чувствую. Зато всегда чувствовал и чувствую, что шабат меня ведет и спасает на всех моих путях.
Из рассказа проф. Шимшона Бар-Она, сына реб Аврома-Довида Барона
Можете вы себе представить кашерную свадьбу в советском университете в пятьдесят девятом году? Невероятно, правда? А вот в Тарту такая свадьба состоялась! Когда сын реб Барона женился, коллеги пожелали устроить ему свадьбу в университете, где он к тому времени уже работал. Отец невесты имел право делать шхиту. Он позаботился о мясе, принес кашерную посуду, а его жена приготовила такую рыбу, что нееврейские гости, не подозревавшие о самом существовании кашрута, только пальчики облизывали.
До глубокой осени, до конца октября, я окуналась в озере за городом. Температура воды - одиннадцать-тринадцатъ градусов, кровь стынет и дыхание перехватывает, но ничего - не простужаюсь, все прекрасно...
Зимой я ездила в Ригу, иногда в Ленинград, где были миквэ. Поездки приходилось приурочивать к выходным дням: на исходе субботы я выезжала, в воскресенье вечером отправлялась обратно.
Поезд в Ригу, помню, назывался ”Чайка”. Он выходил из Таллинна и делал остановку в Тарту, где я и садилась. В дороге проводила часов пять, а то и больше. В Аенинград ездила автобусом, дорога занимала семь часов.
Свои поездки я заодно использовали для ”спецзакупок”. В Ленинграде жили мои родители. Отец имел право резать кур, и зимой я возила катерных кур из Ленинграда, а иногда - из Риги, где тоже был шохет. Летом родители снимали дачу под Тарту, и с курами проблем не было.
В 73-м году, когда мои родители уехали в Израиль, мы полностью ”переключились” на Ригу. С двумя сестрами мужа (они жили в Риге) в шесть утра мы мчались на рынок, покупали кур, бежали в синагогу к шохету, вручную ощипывали кур... Потом - миквэ, потом - к золовке за курами, оттуда - на такси на вокзал, и в понедельник на рассвете я - в Тарту.
Семья у меня была немаленькая: трое детей, муж, свекровь да я сама - шесть едоков, что ни говори, так что продуктов требовалось немало. Муж встречал меня, помогал доставить домой добычу (десять-двенадцать кур, а в Песах - и все двадцать, да еще десять килограммов мацы, которую пекли в рижской синагоге). И я бежала на работу...
Из рассказа врача Тамар Бар-Он, жены проф. Шимшона Бар-Она
У ШПИГЕЛЬМАНОВ - МАЛЬЧИК!
У казанского еврея по фамилии Шйигельман родился мальчик. Мы были знакомы, и я предложил ему сделать сыну брит-милу. Он категорически отказался. Сколько я ни ходил к нему, сколько ни убеждал и ни умолял - ничто не помогло. Что поделаешь? Нет так нет.
Рав Ицхак уже был женат. (Когда Ицхак женился на Гите, мы все этот выбор одобрили: Тита была красавица.) Мой отец привез ему на зиму дрова, но, зная Ицхака, решил проверить, что там происходит. Пришел, смотрит - Ицхак трудится в поте лица: грузит дрова на санки и куда-то везет.
- Куда ты их везешь? - спрашивает отец.
- Там есть одна женщина, она родила...
- Но я тебе их привез!
- Аа, но она после роддома и замерзает, надо и ей тоже.
Не успел, значит, получить - уже распределяет...
Он помнил, у кого когда йорцайт, и приходил напомнить родственникам; помнил, какая женщина когда должна родить, и заботился, чтобы к ее возвращению в доме были дрова (домишки в Казани были в основном деревянные, с печным отоплением, морозы сильные, а время суровое). Знал, кому в тюрьму отправить посылку, особенно мацу на Песах...
Из рассказа доктора Яакова Цацкиса
И вдруг он приглашает моэля, миньян, ставит бутылку водки и дает цдаку (пожертвование)! И это в Казани, где брит обычно делали тайно и так, чтобы отец ребенка был к этому как бы непричастен: на время брит-милы отец уходил из дому.
В чем секрет? Его спросили, и он признался - после того, как я говорил с ним и он отказал, пришел к нему во сне покойный отец:
- Сын мой, если ты не сделаешь ребенку брит, я тебе не отец.
Недавно этот человек приезжал в Израиль и был у меня в гостях.
Почему я так относился к этому? Почему, если надо было, ходил и умолял родителей, чтобы сделали ребенку брит-милу? Потому что брит ־ очень серьезное действие. Отказ от него - не шутка. И не всегда последствия отказа видны сразу, иногда ־ спустя годы...
У одного из моих казанских друзей родился сын. Молодой отец (мы тесно дружили, я занимался с ним математикой и помог ему перепрыгнуть через курс, когда он учился в институте) отказался сделать ребенку брит.
Это была полная неожиданность.
Отец у него был человек особенный, глубоко верующий. Немыслимая вещь для него. Как?! В его семье?! Его сын не выполнит такую важную заповедь по отношению к своему сыну?! Он не мог такого пережить.
Да и я никак этого не ожидал. Отказ был совершенно беспричинный, никаких ”идей” за ним не стояло. Я уговаривал, он выкручивался, мялллил что-то, но - не делал. Очень уж ему жена ”культурная” досталась, и не так жена, как грозная теща. Я-то думал, он будет человек, скажет: я так хочу - и точка. А он только дрожал перед ними.
В эти семь дней, что мы умоляли его сделать брит, умер его тесть. Но они люди ”здравомыслящие”, их ”суевериями” не проймешь! В эти же семь дней умирает его отец. И он все-таки не делает...
Я не утверждаю, что это связано. Так случилось. Но он был единственный из всех, кого я знаю, с кем так случилось. Особенная была семья.
В девяносто третьем году я приехал в Россию и встретился с этими людьми. Их единственный сын умер восемнадцатилетним. Никого у них не осталось. Мне их страшно жалко, этих людей.
Ну, а что касается связей и закономерностей... Общеизвестно - за рулем пить нельзя. Однако и пьяные, бывает, благополучно ездят, и трезвые, бывает, разбиваются. Ну, а если пьяный попал в аварию, что вы скажете? Пить меньше надо! Вот и у евреев свои ”правила дорожного движения”.
Сказано в Торе, что когда нашему праотцу Аврааму исполнилось девяносто девять лет, явился ему Б-г и сказал: ”Я заключаю союз между Мною и между тобой и твоим потомством после тебя... навеки - быть Б-гом тебе и твоим потомкам после тебя. И Я дам тебе и твоему потомству после тебя землю, где ты живешь... и Я буду им Б-гом... А ты храни союз со Мной, ты и твое потомство после тебя во всех поколениях... Вот Мой завет: чтобы обрезан был у вас всякий мужского пола... И будет [брит-мила] знаком союза между Мною и вами. Восьмидневным обрезан должен быть... А кто не обрежет крайней плоти своей - отсечена будет та душа от своего народа; Мой завет он нарушил” (Брешит, 17:7-14).
Отсекается душа - это не шутка!
ПОСЛЕДНЕЕ ОБРЕЗАНИЕ, ЧТО Я УСТРОИЛ В КАЗАНИ
Я давал частные уроки математики сыну казанского шапочника по фамилии Ревзин. Был он коммунист и, приводя сына на урок, неизменно демонстрировал мне свою марксистскую эрудицию и пересказывал биографию Карла Маркса. Но еврейская душа была и у него.
У дочери Ревзина родился мальчик. Ревзин пришел ко мне и говорит, что хочет сделать внуку брит, да зять не соглашается. Угрожает бросить семью, если обрезание все-таки сделают.
Я отправился на переговоры, но ничего не вышло. Здесь было дело серьезное, принципиальное. Несколько раз приходил, убеждал как мог - не хочет, и все.
А тут как раз приехал моэль из Свердловска. Побыл в Казани, сделал два-три брита и собрался уезжать. Оставалось всего несколько часов, когда еще можно было сделать брит. Как быть? Придти в семь утра, до того, как отец ребенка уйдет на работу? Ну, не в семь, ну, в семь с половиной. Что пользы? А позже - не могу, самому на работу надо. Решили: давай попробуем все-таки, зайдем...
Было раннее утро, когда мы с моэлем после молитвы явились к Ревзину. Сидим в кухне, беседуем. Старик Ревзин говорит:
- Что я могу? Я уже говорил с зятем сколько мог, и все без толку. Если бы его хоть дома не было!
Сидим. Мы - в кухне, зять - в комнате: они жили вместе.
Вдруг Ревзин спрашивает у моэля:
- А ножичек у вас с собой?
Тот отвечает:
- С собой.
Ревзин говорит:
־ Вы знаете что? Подождите!
Дал знак - пришла дочка с ребенком.
- Давайте, делайте!
- Но зять сейчас здесь! Как бы не помешал?
- Делайте, делайте!
Прямо в кухне - тесно, сквозит - и сделали. Выходит зять. Ну, думаю, сейчас нам достанется! А парень подходит к моэлю, жмет ему руку и говорит:
- Мазаль тов, дедушка! Еще сын родится - еще раз сделайте.
Ну, что вы скажете про человека? Можно его предсказать? Я и не спрашивал, откуда перемена. Какая разница! Получилось - и хорошо. Свыше помогли.
Съели мы по прянику и разошлись: моэль - на вокзал, а я - на работу.
Это было в пятьдесят девятом году, а в шестидесятом я вынужден был из Казани бежать.
Добавлю только, что этот упрямый зять, как мне передавали, сказал кому-то после моего отъезда:
- Жаль, что Зильбер уехал. Кто бы мной без него интересовался - делать брит, не делать брит! Кому бы до меня дело было?
О разных людях
ПРОЖЖЕННЫЙ КОММУНИСТ И “КАДИШ“
С какими только людьми не сводила меня жизнь в Казани!
В школе рабочей молодежи, где я одно время работал, учился парнишка. Отца его звали Эфраим, фамилию называть не стоит. Приехал он в Казань из Бердичева и был прожженный коммунист.
Женясь, Эфраим поставил невесте условие - никакой мацы в Песах! Когда родился сын, он пригрозил: ”Посажу и того, кто устроит, и того, кто сделает брит!” И жену пригрозил бросить.
־ Он действительно был человек жесткий, и все моэли боялись делать брит младенцу. Но отец Эфраима, глубоко верующий, пригласил моэля издалека, и тот сделал обрезание.
Придя домой и увидев, что произошло, Эфраим собрался выполнить свою угрозу. Но жена остановила его: ”Сначала посади своего отца!” Он шумел, возмущался, кричал, что разведется. Едва обошлось...
Я познакомился с этой семьей, когда супруги были уже немолоды, прожили вместе лет двадцать. Жена была из религиозной семьи и всю жизнь проплакала, но все двадцать лет мацы в доме не было.
Я проводил в этом доме перерыв между двумя школьными сменами, с часу, кажется, до четырех, и стал здесь своим человеком. И однажды обманул хозяина дома.
В отсутствие Эфраима я спросил у его жены:
- Как же все-таки Песах без мацы?
Бедняга отвечает:
- Что я могу сделать? Он ни за что не соглашается.
Я говорю:
- Ладно, мацу есть нельзя. А булочки сдобные - можно?
- Можно.
И я научил ее, что делать. Тесто, замешенное из обычной муки, но, разумеется, без дрожжей и совершенно без воды - только на виноградном соке или на масле, не считается хамецом, то есть кислым. Еврейский закон не разрешает такую пищу в Песах в обычном случае, но для больных делает исключение.
В том году Песах был незадолго до Первого мая - не знаю, известен ли вам этот ”международный праздник трудящихся”, но в Союзе он считался государственным праздником и отмечали его очень широко. Я предложил:
־ Очисти квартиру от хамеца, побели ее будто бы в честь Первого мая и выпеки побольше таких ”сдобных” булочек.
Так она и сделала. Вычистила печь, напекла булочек на всю пасхальную неделю, и за весь Песах в их дом не вошло ни крошки хамеца.
Раз уж все так удачно получилось, я попросил сестру этой женщины дать ей немного мацы и купить кашерную курицу: на ней ведь не написано, кошер - не кошер. В первую ночь Песах, когда ”идейный страж” не видел, сестры ели мацу, и так, на одних булочках, прошла вся неделя.
Помню, через какое-то время я рискнул сказать ему:
- Знаешь, ты в этом году даже хамец в Песах не ел!
Он перепугался: - Как это не ел?..
Не думайте, что я это сделал наобум. О каждой вещи, которую собираешься сказать человеку, надо хорошо поразмыслить: можно говорить или нет? Не вызовет ли это ссоры? Будет ли понято?
А тут как-то одно за другим подошло. Двадцатый съезд. Разоблачение Сталина. Эфраим не верил ничему, спорил, возмущался: ведь Сталин был идолом, самым настоящим идолом для массы людей. И все-таки... Момент был такой, что мог повернуть человека. Да и Песах так хорошо прошел. Ну, я подумал и сказал.
Этот самый прожженный коммунист Эфраим рассказал мне такую историю. Еще до войны он был в командировке в Москве и прилег как-то днем вздремнуть.
Приходит к нему во сне его покойная мать и говорит:
- Сынок, сегодня мой йорцайт, почему ты не читаешь ”Кадиш” за мою душу?
Он, конечно, решил, что сон - ерунда, но, зная дату смерти матери - девятое ияра, нашел евреев и полюбопытствовал, какой сегодня день по еврейскому календарю. Ему сказали - девятое ияра. В Москве его никто не знал, он пошел в синагогу и прочел ”Кадиш”.
Это я второй раз услышал про такой сон (помните студента из Польши?), только тут человек прилег днем. Слышал я похожую историю и еще раз - от нееврейской женщины, с мужем которой я сидел...
СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ
Стоит вспомнить об одном пламенном партийце, как другой на память приходит. ”Другой”, правда, здесь не очень годится. Второго такого, не скажу кого, как Иоська, я в жизни не встречал. Потому и фамилию не называю. Где бы он ни находился, ни стоял и ни сидел, он взахлеб расписывал, какое счастье всех осенит, когда власть окажется у трудящихся, а буржуев не станет. Вслух представлял себе, какое это будет блаженство, когда наступит коммунизм. На моего отца и вообще на верующих людей смотрел как на злейших личных врагов.
У него родился сын, и он дал ему имя, в котором каждая буква что-то означала: тут тебе и Советская власть, и Троцкий (это, помню, была буква ”т”), и еще что-то. Потащил младенца к евсековцам на заседание, всем показал и речь произнес: вот, мол, человек будущего, он и то, он и се, и не знаю еще что. Это вместо того, чтобы брит-милу сделать...
Помню, в сорок первом году отец ставил хупу у сестры соседки. Когда мы уходили, кто-то помог отцу надеть пальто. Мы вышли, и отец спрашивает:
- Кто это мне подал пальто?
- Иоська!
Отец просто вскрикнул:
- Не может быть! Да ты что? Не может быть!
А я подумал - это он после тридцать седьмого. Может, Иоську исключили откуда-нибудь, может, сам что разглядел. Тридцать седьмой год кое-кому - кое-кому! - открыл глаза.
Знаю, что второму сыну Иоська сделал обрезание.
Видно, и Иоська стал думать. И додумался до того, что его внук нынче учится в Московской ешиве. И хорошо учится. Я когда услышал, чуть в обморок не упал. А недавно в ешиву приезжал его отец, Иоськин сын. Ничего не знает, но симпатичный.
КЛЕЙНЕРМАН
В Хумаше сказано: ”И было, когда он [Моше] приблизился к стану и увидел [золотого] тельца и танцы, то воспылал гнев Моше, и бросил он из своих рук скрижали, и разбил их под горою” (Шмот, 32:19). Одно слово кажется тут лишним. ”Увидел тельца и танцы...” ”Увидел тельца” - разве этого недостаточно, чтобы разгневаться? Причем здесь ”танцы”?
Отвечу таким рассказом.
В сорок седьмом - сорок восьмом году я давал частные уроки математики тем, кто хотел окончить школу с золотой медалью и без экзаменов попасть в вуз. Состоятельные люди могли себе это позволить - нанять частного учителя.
Среди моих учеников была дочь некоего Клейнермана, директора сразу двух галантерейных фабрик системы НКВД. Клейнерман
был такой важной персоной, что имел в своем распоряжении лич-ный самолет. Да и жена его занимала немалую должность - председатель профкома.
Занимался я с его дочерью у них дома. Так вот, такой роскоши, как у этого человека, я в жизни не видел. Не дом - Третьяковская галерея, столько там было картин!
Как-то закончил я урок, вдруг Клейнерман приглашает меня к себе в кабинет:
- Вы слышали, евреи хотят объявить свое государство?
Я молчу, боюсь говорить - он же из НКВД. А он продолжает:
- И на флаге у них будет написано: ,’Всякий, кто голоден, приходи и ешь!” (слова из Пасхальной Агады. - И.З.).
Я молчу.
Вошла его жена. Он кивает:
- Вот, моя жена. Ее раньше звали Ципа. Сейчас она ничего не соблюдает, но когда-то зажигала субботние свечи. Я учился в ешиве и был совсем молодой, когда пришла советская власть. Появились еврейские коммунисты, Евсекция, готовые жизнь отдать, лишь бы свести человека с пути веры. Взялись они за меня - а я тогда еще был энтузиаст, старался собрать миньян - и бились со мной несколько лет. И добились своего. С тех пор я работаю в системе НКВД. Правда, был у меня шанс - в двадцать шестом году послали меня в командировку в Румынию. Я мог бы там остаться. Но шанс был, да разума не было. Я вернулся - и потерял "олам а-зе” и "олам а-ба” (этот мир и мир грядущий).
Я смотрел на него и думал: что это он говорит про "олам а-зе”? Да лучше его положения не придумаешь! Когда он говорит, что потерял будущий мир, - это понятно. Но этот мир? Не жизнь, кажется, а сплошное удовольствие. Что же ему нехорошо, что его мучает?.. Понимает, видно, что все это фальшивка. И слова его запали мне в сердце.
Если человек грешит, но при этом недоволен собой - в нем еще есть зерна добра. Сказано: Моше-рабейну увидел ”тельца и танцы”. Не танцуй они, может, он бы еще подумал, разбивать или не разбивать скрижали. Но они радуются, танцуют! И он разбил...
Из слов Клейнермана следовало, что он служит идолу, но без ״танцев”. Он был искренен, говоря со мной, ־ это потом проверилось делом.
В те времена нельзя было свободно купить муку. Люди ночами напролет стояли в очередях и получали товар по формуле ”пакет в одни руки” (стандартные такие были трехкилограммовые пакеты из плотной оберточной бумаги). Нужна была мука для мацы, и Клейнерман мне предложил: ”Приходи на фабрику, может, смогу получить”. Я пришел, он побежал куда-то и принес пакет. Потом говорит: ”Подожди”. Побежал на вторую фабрику и принес из распределителя для работников фабрики второй пакет. Потом я случайно узнал еще: Клейнерман прислал дрова какому-то слепому старику-еврею.
Конец его ”карьеры” был ужасен. Через доверенного человека он послал взятку - пятьдесят тысяч - прокурору Татарской республики. Но ему устроили ловушку. ”Доверенный человек” пометил купюры, и к прокурору тут же явились с обыском.
Это было громкое дело, посадили многих... Не думаю, однако, что это делалось законности ради, скорее какие-то свои счеты: советская экономика ”по-честному” в принципе не могла действовать. Но пострадали от этого не только те, кто сел. Верующим, например, трудно было делать то, что нужно, не обходя закон, а после этого события в Казани долго нельзя было сделать ничего незаконного, все боялись.
Клейнерман отсидел около десяти лет. Я навестил его, когда он вышел. Он отнесся ко мне очень тепло, не знал, что для меня сделать. Взял меховую шапку, надел мне на голову: ”Она вам подойдет”. Я, конечно, не взял.
А ведь не познакомься я когда-то с этой семьей, как бы мой Венчик учился в школе? Именно дочка Клейнермана нашла учительницу, которая согласилась принять моего сына в класс, где он не писал в субботу. На такой риск пошла! Кстати, Бенцион поддерживал с этой учительницей переписку до самого недавнего времени. А теперь она здесь, в Иерусалиме, вместе с сестрой. Приехали насовсем. Это Бенцион их пригласил.
РЕБ БЕРЛ ГУРЕВИЧ
Однажды - это было в пятидесятые годы, в Хануку, в канун субботы - я шел молиться. Вижу - идет человек на костылях и спрашивает, где живут евреи. Я привел его в миньян.
Миньян собирался в крошечной комнатушке, метров шесть от силы. А он вошел и говорит: ”Ой, это же настоящий рай!” А когда его вызвали к Торе, он произнес ”Шеэхеяну” - ”Благословен Ты, Г-сподь, Б-г наш, Царь вселенной, Который дал нам дожить, и просуществовать, и достичь этого времени”. Это - благословение на радостные события и большие праздники.
Фамилия этого человека была Гуревич. Он был хабадник и активно помогал в организации тайных занятий Торой.
У Гуревича было три сына, и, тревожась о том, какими они вырастут при советском режиме, он решил отправить их в Израиль с первыми польскими евреями, добыл фальшивые документы. Но парней задержали в пути и арестовали. Гуревич взял всю вину на себя и так умно действовал, что, кроме него, никто не пострадал.
Отсидел он десять лет и теперь возвращался в Москву.
Проезжая Казань и увидев, что солнце заходит, наступает суббота, он сошел с поезда и стал расспрашивать прохожих, где тут евреи...
Я, конечно, привел реб Берла к себе. Он немного рассказывал о жизни в лагере. Там ему приходилось очень трудно из-за субботы. Начальник орал на него: ”Ты у меня будешь работать в субботу!”, а он упирался, и за это его наказывали беспощадно. Так что, как он сказал, он сейчас на костылях не из-за ног, а из-за сердца... Потом, в Москве, он оправился.
Однажды реб Берл чуть не погиб. У заключенного-чеченца, видно, было плохое настроение. Он выхватил нож, подбежал к Гуревичу, совершенно ему не знакомому, и ударил в спину, в позвоночник. Специальный такой удар - чтобы разрубить спинной мозг. Смертельный. К счастью, нож прошел мимо. Гуревича отнесли в больницу. Через час притащили туда же раненого чеченца: с Гуревичем у него не вышло, так он сцепился с другим человеком, но тот оказался проворнее. Тяжело раненный Гуревич, с сильным кровотечением, немедленно удрал из больницы назад в лагерь, только бы не быть рядом с чеченцем: вдруг бы тому вздумалось довести дело до конца!
- На исходе субботы поеду дальше, - говорил Гуревич. - Столько лет я не был дома! Не знаю, что стало с детьми. Если они останутся евреями - не жалко лет, что я просидел. Но если они стали, как все, - обидно мне будет.
Я налил ему стакан молока - нет, он отлил себе полстакана: - У вас же дети!
Вечером после субботы прощаемся - я хочу дать ему десять рублей.
- Зачем? - говорит. - Кирпич хлеба есть у меня, билет на поезд есть, доеду. Единственное, о чем попрошу, - удалось мне пронести в лагерь тфилин, а ремешок за это время истерся. Если можешь, дай мне ремешок.
Я дал ему ремешок. Проводил на вокзал. В трамвае кто-то хотел уступить ему место - он отказался. Какой-то военный заметил:
- Вот, товарищи, учитесь порядочности у этого человека. Он не спекулирует своей слабостью.
Не знаю, что он имел в виду, но попал в точку.
А Гуревич - это ж надо! - прислал мне из Москвы пятнадцать рублей за ремешок.
Мы с реб Берлом переписывались, и теперь я могу рассказать, что было, когда он приехал домой.
Гуревич жил далеко от синагоги, добирался туда автобусом (в субботу, конечно, пешком ходил), возвращался с утренней молитвы уже после двенадцати, а до молитвы, как и полагается, ничего не ел. Он очень ослабел, и врачи запретили ему выходить из дому натощак, велели съедать перед уходом хоть кусок хлеба с маслом. Но он не решался. И тогда ему приснился сон, который приснится не каждому... Во сне к нему явились три больших человека. Одного из них Гуревичу во сне назвали - рав Хаим-Иосеф-Давид Азулай (Хида). Это великий еврейский ученый, мудрец и каббалист, живший в восемнадцатом - начале девятнадцатого века. Эти люди сказали ему: ”Вы спросили у рава. Он велел есть. А вы не едите. Приказываем вам есть”. Тогда он стал есть. Да, скажу я вам, не каждый удостаивается такого сна...
Сыновья выросли, конечно. И, как и опасался отец, кто-то из них попал под влияние окружения. Реб Берл делился со мной своими переживаниями, и я хорошо понимал его.
В конце концов - только его слезами! - все три сына стали крепки в вере. Один из них позднее переехал в Ташкент. Он был учителем моей Хавы - занимался с ней Хумашем.
Вся семья приехала в Израиль. Реб Берл не только дождался этого времени - он прожил в Израиле семнадцать счастливых лет и умер в возрасте за девяносто. А уж с каким уважением относились к нему дети, вы и представить себе не можете!
Последние семнадцать лет у него были - как у праотца Яакова. Ни одной неприятности. Он молился, собирал деньги на благотворительность, учил людей Торе. Помню, он говорил:
- Дети у меня все хорошие, но сноха Бейла - никому с ней не сравниться!
О снохе его я знаю такую историю.
В Союзе она окончила бухгалтерские курсы и сдала почти все выпускные экзамены. Кроме одного, который пришелся на субботу. На этот экзамен она не пошла - предпочла остаться без диплома. На всю жизнь.
Мы с реб Берлом не раз виделись в Кфар-Хабаде, где он жил. Раз как-то я приехал туда на свадьбу, мы встретились, и я сказал ему, что через пару дней приеду снова. Он пришел. Это была наша последняя встреча. Через два дня реб Берл умер.
Благословенна его память...
РАВ НАТАНЭЛЬ ШМУКЛЕР ИЗ ВИЛЬНО
В лагере под Казанью отсидел десять лет польский еврей На-танэль Шмуклер. За что? Он учился в ешиве в Польше, и когда пришла советская власть, сказал какое-то ”не то” слово.
Жительница Казани, носившая в лагерь передачи зятю, как-то принесла мне записку от незнакомца. Это был рав Шмуклер. Я стал посылать ему через нее передачи. Выйдя из лагеря, рав Шмуклер остановился у нас. Ему нужна была срочная операция, и мы нашли врача.
Меня не было в городе, когда, выйдя из больницы, рав уезжал в Вильнюс. Провожать его пошла Гита: она несла чемодан - раву нельзя было поднимать тяжести. Бушевал ураган. Возвращаясь из Москвы, куда я ездил по делам, я видел его последствия: опрокинутые телеграфные столбы, перевернутые лодки, поваленный лес. Дети остались дома и очень боялись за маму. Но все обошлось.
Из Вильнюса рав Шмуклер сообщал, что появилась возможность ехать на родину, в Польшу (с дальним прицелом, имеется в виду), но жена не хочет: у нее все родственники в России. Я прочел письмо в трамвае, тут же сошел и вернулся домой, чтобы немедленно написать раву ответ. Я писал в расчете, что письмо прочтет и его жена. ״Не понимаю, ־ писал я, обращаясь якобы к раву, - почему вы мешаете нашему другу Натанэлю уехать домой. Вы ждете, чтобы его забрали?” (Было очевидно, что его опять могут арестовать.)
Письмо подействовало. Вскоре рав Натанэль подал документы на выезд. Он действительно чуть с этим не опоздал: к счастью, разрешение на выезд было уже получено, когда его вызвали в КГБ. Он едва успел уехать. Этот знающий человек одно время был раввином в Тель-Авиве.
Рав Шмуклер хотел взять с собой Бенциона - сыну тогда было семь лет. Он считал, что за границей Бенцион получит полноценное воспитание и образование, а в России это невозможно или, во всяком случае, очень трудно. Я колебался, но не послал сына с ним. И не жалею.
Прошло время, мы приехали в Израиль. И как-то рав Натанэль рассказал мне с некоторой обидой, что он зашел к Бенциону в ешиву ”Слободка”, где тот учился, после женитьбы, и разговор у них начался так:
- Здравствуй, Бенцион! Ты меня узнаешь?
- Да-да, здравствуйте, я рад, что вы пришли, но, вы меня извините, давайте выйдем из ешивы и поговорим на улице. У нас закон: ешива свята, она только для изучения Торы. Делать расчеты или разговаривать - нельзя.
- Ух, какой он у тебя ”канай” (”ревнитель״)! - говорил мне рав Шмуклер. - Какой он строгий!
РЕБ ЯНКЛ ЖУРАВИЦЕР И ЕГО СЫН МЕНДЛ
Реб Янкл Маскалик (Журавицер), выдающийся хасид ХАБАДа, был человек-легенда.
Когда власти начали закрывать синагоги, реб Янкл по всей стране организовал тайное обучение еврейских детей. Хабадники были в этом деле великие мастера.
Реб Янкл был одним из организаторов группы ”Ахим” (”Братья”). Их было одиннадцать человек, они и правда были друг другу как братья. Они поддерживали семьи заключенных, просто евреев, собирали цдаку (пожертвования) для тайной ещивы в Марьиной Роще, действовавшей в трудные тридцатые годы. В ешиве было всего несколько учеников, и они жили там, практически не выходя. Один из этих учеников сегодня живет в Бней-Браке.
Реб Янкл ездил по городам, организовывал учебу, помогал устраивать и ремонтировать миквэ, находил для людей работу надомниками, чтобы они могли не работать в субботу. Эти три вещи были его постоянной заботой: учеба, миквэ, работа на дому. Он был очень беден, но на это всегда ухитрялся раздобыть деньги.
Реб Янкла арестовали, и с тех пор никто не знает, где его кости.
(Так я написал было, но на днях внук реб Янкла, Реувен Альперин, сказал, что семья недавно узнала: реб Янкл был расстрелян в декабре тридцать восьмого года.)
Мендлу, сыну реб Янкла, после ареста отца приходилось скрываться от властей. В пятьдесят четвертом году он прятался у меня.
Бенциону в то время было лет пять, он уже учил Тору. Как-то смотрит Мендл с Венчиком Хумаш и показывает ему слово ”Лот” - имя племянника Авраама. Бенчик читает: вот ”Лот”, вот еще ”Лот”. Тот захотел подшутить над мальчиком и говорит:
- Знаешь что? Если найдешь слово ”Лот” где-нибудь дальше (после главы ”Баера” книги ”Брешит” Лот нигде больше не упоминается. - И.З.), получишь рубль.
Бенчик тут же открывает ему Хумаш далеко после ”Баера” и показывает ему ”лот” (в иврите нет строчных и прописных букв). Правда, без ”вав”, не имя ”Лот”, а растение ”лот” (книга ”Брешит”, глава ”Ваешев”, 37:25) - но нашел моментально! И ничего тому не оставалось, как отдать Бенчику рубль.
Мендл Маскалик прятался у нас больше месяца, потом вернулся в Москву.
В начале семидесятых, когда евреи стали выезжать из СССР, он помогал им материально. Не собирал или добывал для отъезжающих деньги - только свои давал, те, что зарабатывал. Б-г ему помог, ему хватало не только на себя, но и на помощь другим.
Он был найден убитым на улице в Подмосковье.
Так же ”случайно” погиб сын костромского шохета (у которого, выйдя из тюрьмы, жил Любавичский ребе). Ребе уехал в Америку, шохет умер, а сын, который был, кажется, юристом, стал очень толковым ходатаем по всяким религиозным делам.
Я не помню ни его имени, ни фамилии. Помню только, что по поручению нашей общины он поехал в Москву, ходатайствовать за Казанскую синагогу. В вагон вошли двое, вывели его в тамбур и выкинули из поезда...
Мои секреты
КАК Я СОБЛЮДАЛ СУББОТУ, КОГДА ПРЕПОДАВАЛ
Я учительствовал около двадцати лет, с сорок первого по шестидесятый, и прервал эту деятельность не по своей воле.
За два десятилетия я выработал массу приемов маскировки. Поделюсь с вами - пусть они вам никогда не понадобятся - своими секретами.
Первый и основной принцип - всю неделю я работал на субботу. Собственно, я этот принцип не придумал, так оно и полагается: все лучшее из того, что у нас есть, лучшую пищу и лучшую одежду, мы оставляем на субботу. Неделя и должна быть подготовкой к субботе.
В начале недели я старался рассказать побольше, дать ученикам весь запланированный на неделю материал, чтобы в последние дни мы могли только упражняться в решении задач и примеров.
Накануне субботы я заранее заполнял журнал: указывал темы уроков, проставлял оценки ученикам, которых намечал опросить, и старался запомнить их фамилии. Это можно было сделать и задним числом, скажем, в понедельник, но я подстраховывался на случай так называемого ”посещения”. Могли прийти с проверкой завуч школы, директор, инспектор гороно (городского отдела народного образования) или кто-то из Института усовершенствования учителей, перенять опыт...
Мама просила завуча составить расписание так, чтобы, у нее в пятницу вечером не было уроков.
- Вам надо, вы и составляйте, - обрадовался завуч, что может свалить на кого-то нудное дело.
Мама и составила, учла и удовлетворила пожелания всех учителей. Все были довольны. Кроме завуча, который стал посматривать на маму косо: уж не метит ли она на его место?
Из рассказа рава Бенциона
Я убедился и могу утверждать: подвергая человека испытанию, Б-г всегда дает ему силы это испытание выдержать. Было бы желание. Нельзя сказать: ”Я был вынужден украсть, убить...” Так не бывает. Если бы ты знал, что тебе придется заплатить за это тридцать тысяч долларов, ну, сорок, - ты бы точно удержался. Вы скажете - неудачный пример: человека тюрьма не останавливает, как же его деньги остановят?! А я говорю - остановят. Деньги сильнее, чем тюрьма. За деньги убивают. Тот, кто не боится Б-га, все сделает за деньги. И от многого за деньги удержится. А если не удержался - значит, не хотел! Но силы устоять перед испытанием - есть!
Мы вышли из страны, где все воруют. Как использовать это качество для добра?
Красть время для Торы!
Должен признаться: я много обманывал советскую власть, много времени у нее украл. В субботу я всегда являлся в класс с опозданием, минут через десять после звонка, независимо от того, ждет меня там какой контролер или нет. Это был мой второй рабочий принцип. Как этот долг отдать сейчас - не знаю.
Но вот я в классе. Инспектор уже сидит на задней парте, ждет. Я вдруг ”спохватываюсь” - ох, забыл журнал. Отправляю кого-нибудь из учеников за журналом. Журнал доставлен. Предлагаю принесшему: ”Отметь, кого нет в классе” (обычно это делает учитель), - а сам ”наверстываю время”: велю ученикам открыть задачники и называю номер примера или задачи. Один ученик решает у доски, остальные - в тетрадях.
Теперь представим себе, что ученик у доски забыл или не знает формулу. В любой другой день я бы написал формулу на доске сам. Но суббота! И я поднимаю одного, другого, третьего ־ пока кто-то не напишет. И так я веду весь урок - только примеры и задачи.
Третий принцип касался тактики действий с учениками-еврея-ми. Это тоже ведь надо заранее обдумать. В субботу я евреев к доске не вызывал, а к сидящим за партой подходил и говорил: ,,Тебе тема сегодняшнего урока понятна, можешь не писать”.
Что интересно: инспектировали меня не раз, и неизменно уроки в субботу или в праздники получали самую лучшую оценку. Лучшую! Инспекторам очень нравилось, что ”учитель только руководил классом, а весь класс увлеченно работал”.
Потом, после урока, спрашивают:
- Ну, как насчет оценок?
Я велю принести журнал и показываю:
- Вот видите: Федоров ответил на все вопросы - получил ”четыре”, ”хорошо”! Андрей с несколькими вопросами не справился - я поставил ему ”тройку”.
- Ну что ж, справедливо!
А оценки поставлены до захода солнца в пятницу!
Этим своим правилам я следовал постоянно.
Ситуации, конечно, бывали разные. Скажем, выпал на субботу государственный экзамен. Знаете, как он организуется? Учитель приходит в школу заранее, комиссия вскрывает специальный конверт с экзаменационным заданием и передает его учителю и двум ассистентам. Задачу следует решить самому, затем написать на доске ее условия, написать также примеры и ждать, пока задачу и примеры не решат школьники. Экзамен продолжается шесть часов.
Тут, конечно, трюки, разработанные для урока, не годятся. Как быть? Писать я, разумеется, всегда предлагал ассистенту: ”У тебя почерк лучше, а решение я продиктую”. Ассистента это обычно устраивает. Я диктую, он записывает на доске - и все в порядке.
Но что делать, если среди экзаменующихся - ученик-еврей?
Как я поступал в таких случаях в классе, я уже говорил. Но на экзамене? По-разному выкручивался. Помню паренька, семья которого приехала в Казань из Биробиджана. Он собрался было писать, но я ему сказал: ”Иди домой. Я тебя знаю, засчитаем так...” И сошло.
Случались и курьезы. На субботу у меня было много ”патентов”. Но однажды, в субботу перед экзаменами, когда занятия уже закончились и ждать инспектора не приходилось, я пошел давать консультацию, что называется, с голыми руками, ”невооруженный”.
Я тогда работал в Ленинградском учетно-кредитном техникуме, эвакуированном в Казань. Это было в субботу, двадцать шестого тамуза сорок пятого года, первый йорцайт отца. В шесть утра я помолился в миньяне, там же сказал кидуш над двумя кусочками хлеба и побежал к восьми в техникум.
Начинаю отвечать на вопросы. Тут вбегает директор. В руках - лист с какими-то подписями.
- Исаак Яковлевич (так меня звали официально, потому что отец, меняя фамилию на ”Зильбер”, поменял и имя на ”Яаков”), - обращается он ко мне, - эту бумагу необходимо до девяти сдать в Министерство просвещения. Все подписи есть, только вашей не хватает. Подпишитесь, и я убегаю.
Что прикажете отвечать?
- Борис Лавович, - говорю, - ребята совсем изнервничались. У них экзамен на днях, а я как раз отвечаю на вопрос. Не хочу прерываться. Минут через десять зайду к вам в кабинет.
Он отправился к себе, я поспешно извинился перед учениками: мол, голова разболелась - и удрал.
Прихожу в школу в понедельник. Директор недоволен:
- Что с вами стряслось? Я ведь ждал!
- Ох, простите, пожалуйста! Так голова разболелась, что я и забыл совсем!
И это еще пустяки, ерундовый случай.
И так было всю жизнь!
КАК Я ЧИТАЛ МИНХУ
Еврей молится трижды в день: утром, после полудня и вечером.
В Столбищах все три раза были для меня проблемой. Дома не помолишься - я жил в одной комнате с детьми хозяев, за околицей - народ без конца ходит. И тут я обнаружил, что входные двери у нас в школе - просто уникальные. В жизни не видел таких широких дверей. Встанешь за створку - никому тебя не найти. ”Благословен Всевышний, который сотворил двери мудро”, - сказал я себе и стал молиться за створкой. Выгляну за дверь после первого урока, увижу, что ребята во дворе увлеклись мячом, и надеваю тфилин.
Однажды звонок на урок прозвенел как раз, когда я должен был начать ”Шмона эсре”. Я бы задержался, да меня позвали. Пришлось прерваться и пойти, не закончив молитву. Что делать? Ну, раз говорить нельзя, я молчу. Объясняюсь жестами. Раскрываю задачник, указываю номер задачи, показываю, кому идти к доске... Ребята посмотрели-посмотрели на это и спрашивают:
- Вы на нас сердитесь? За что?
Молчу.
Они опять:
- Вы нам скажите, в чем дело, - мы исправим!
Молчу. И так - до конца урока.
На очередном уроке ”объясняюсь” с классом:
- Вы что, сами не догадались? Забыли, что на прошлой неделе удрали с урока в кино?!
В городе утро и вечер принадлежали мне. А вот что делать с предвечерней молитвой, которая называется минха, если урок кончается без четверти пять, а заход солнца - в пять с чем-то?
Я выходил читать минху на автобусную остановку рядом со школой. Выбегал на перемене ровно без четверти пять. На деревянном щите у остановки расклеивали газеты: ”Правду” и ”Известия” - и театральные афиши, к счастью, без сомнительных фотоснимков. Я притворялся, что читаю, а сам молился. В молитве ”Шмонэ эсре” (она еще называется ”Амида”), где надо сделать несколько поклонов, я нагибался, будто хочу рассмотреть какое-то имя на афише.
Стою так однажды, читаю ”Шмонэ эсре” (эту молитву нельзя прерывать), и вдруг ко мне подходят двое наших учителей, Анна Федоровна и Федор Тарасович.
О Федоре Тарасовиче все знали, что он доносчик. Он прежде работал в Министерстве юстиции и там буквально ”косил” народ. Сотрудники не чаяли от него избавиться. А как? Устроить в другое место. Его и устроили учителем истории в нашу школу. Полугода не прошло, как по его доносам сняли и нашего директора, и завуча.
Подходят ко мне Анна Федоровна с этим доносчиком:
- Исаак Яковлевич, как кстати! (Ничего себе ”кстати”!) Надо бы посоветоваться насчет выпускных экзаменов. Как вы думаете, где и в какие часы лучше принимать?
А я стою ”Шмонэ эсре”! Показываю на сердце, на рот - плохо, мол, с сердцем, дыхание перехватило, не могу говорить. Они спрашивают:
- Что с вами? Вам плохо?
Этот подлый доносчик помчался вызывать ”Скорую помощь”, Анна Федоровна за ним. ”Скорая” пришла, когда я уже закончил молитву. Я всех успокоил:
- Мне легче. Могу говорить. Все в порядке.
Еще несколько слов о выпускных экзаменах, а заодно - о школьных выпускных вечерах. Сегодня могу признаться, что мне всегда было жалко выпускников-десятиклассников и на экзаменах я им подсказывал ответы. Классные руководители, отвечавшие за уровень успеваемости, были очень мною довольны. Анна Федоровна, помню, все приговаривала:
- С Исааком Яковлевичем обязательно выпьем шампанского на выпускном вечере.
Помню, как я сидел на этих выпускных вечерах. Разольют шампанское по бокалам, а я возьму бокал - и начинаю речь. Говорю и говорю, и ставлю бокал на стол, а потом будто по ошибке беру рюмку водки (еврейский закон запрещает пить вино, приготовленное не евреем)... Сходило нормально.
Я был в хороших отношениях с ребятами, я занимался не только их обучением, но и воспитанием, и достаточно серьезно. Было все, как у честного педагога: и письма, и встречи после выпуска. Но тем не менее - у меня не было с ними ничего общего! Все - на дистанции. Я присутствовал на этих вечерах, и говорил, и улыбался, но я был не с ними и не помню ничего! Как сказал мудрый Коцкер Ребе: ”Можно сидеть за столом, есть вместе со всеми - и поститься при этом, можно быть вдали от кого-то - и все время беседовать с ним”.
Маму в городе считали модницей - еще бы, всегда в шляпке! А это у мамы был такой вариант ”кисуй-рош” - "головного покрытия” (замужним еврейским женщинам полагается покрывать волосы).
Папа носил кепку и изображал ”рассеянного профессора”. Если ему напоминали: "Простите, а головной убор?”, он ”спохватывался”: ”Ах, да-да, извините!”
Из рассказа Хавы
БОЛЬНИЧНЫЙ
Свои приемы были у меня и для праздников. На Йом-Кипур, например, я всегда брал больничный.
Но без неожиданностей жизни не бывает. Однажды обстановка сложилась донельзя неблагоприятная. Доктор Набойщикова нашептала заведующему поликлиникой, что врачи выдают бюллетени по знакомству. Тот отреагировал просто: бюллетени не выдавать! Больных с температурой не ниже тридцати девяти приводить к нему лично. Он сам выдаст. Сроком на один день.
Заранее, за две недели до Иом-Кипур, - среди врачей поликлиники было несколько верующих - меня предупредили, чтобы я не рассчитывал на больничный. Сами врачи собирались поститься без предпраздничной трапезы, которой полагается предварять пост, чтобы легче его перенести: ”Мы кончаем работу в четыре с четвертью. Добраться до дому, чтобы поесть перед Йом-Кипур, не успеем. Будем поститься так”.
Близится Йом-Кипур. Я уже закончил последнюю трапезу, а больничного у меня еще нет. В школе рабочей молодежи, где я работаю, ребята боевые, - если я не приду ״без уважительной причины״, так не спустят. Моя соседка Оля Лифшиц, верующая женщина, муж которой был большим человеком на авиационном заводе, говорит:
- Набойщикова живет у нас во дворе. Попробую уговорить.
Заходим к Набойщиковой. Оля заводит долгий разговор, рассказывает, какие, мол, у этого человека (у меня то есть) родители были верующие, и отец, и мать, и сын всегда их почитал... И болтает, и болтает... А дело не двигается. Я вижу - время на исходе, уже Кол нидрей начинают, и спрашиваю в лоб:
- Дадите больничный на завтра? Или нет?
А она: ״Фамилия?” - и выписывает больничный! На Йом-Кипур!
Почему я рискнул спросить так прямо? Некогда было дипломатию разводить!
СУККОТ
Каждый учитель в Союзе обязан был вести общественную работу. Меня выбрали членом месткома (школьного учительского профсоюзного комитета). При распределении обязанностей я взял на себя дела, требующие минимума времени: собирать членские взносы, распределять премии и путевки в санатории. И еще я делал доклады на учительских научных конференциях.
Мы с Сарой и Бенционом
Член профкома избирается сроком на год. Прошел год. Отчетно-выборное собрание назначили! на первый день Суккот, который выпал на субботу. Не явитбсш на собрание было невозможно - ждали представителя из обкома׳ профсоюза. Взять больничный? Но больничные я берег на Рош-а-Шана и Й ом-Кипу р. Я страшно боялся пропускать работу в праздничные дни без больничного листа и всегда на эти дни заручашя! соответствующей бумажкой. Верите ли, все годы работы я ни! разу не брал бюллетеня действительно по болезни. Как-то две недели проболел воспалением легких, но ходил на работу даже при телшературе за тридцать девять. Все уже привыкли к этом?, так что “разболеться” еще и в Суккот я не мог.
Меня беспокоило, что в отчете - ша! собрании мне придется объяснять, сколько денег я собрал взносами и на что они потрачены, - в субботу деньгами не занимаются!.. Я решил, что эти финансовые расчеты можно отнести к категории ”дварим шель ма ве-ках” - разряду вещей, которые человека! не? касаются и совершенно его не интересуют. Тогда о них можно говорить. Чтобы не носить с собой записи, я выучил все цифры наизусть и был готов дать отчет, чтобы отделаться.
Однако была еще одна проблема*.. Мне предстояло в последний раз собрать взносы. Зарплата пре дполаас алась в четверг, и я решил, что в этот же день соберу взносы, наклею марки, а в субботу приду только ”отболтаться”.
На беду, кассир, узнав, что в субботу собрание, позвонил и предупредил: ”Я приду не в четверг, а в субботу. Выдам зарплату, Зильбер наклеит марки, а потом начнем собрание”.
Что делать? Клеить в субботу запрещено. Как выкрутиться? Единственный раз за всю жизнь я выхода не нашел. Решил, что не явлюсь, и все. А завуч наш, Володя Штейнман, знал, что я в субботу не работаю. Он подошел встревоженный:
- Исаак Яковлевич, я всегда вам помогаю. Но если вы не придете на этот раз, будет ужасно - начнутся разговоры, и против меня тоже. Б-г простит вам нарушение: нет выхода, вы вынуждены прийти.
Завуч был, конечно, прав - разговоры могли начаться, и самые неприятные. Но я подумал и решил, что разговоры и даже возможные санкции ־ все-таки не пикуах нефеш (угроза жизни): не расстреляют же меня! Ну, выгонят с работы, в крайнем случае - отнимут диплом... И я не пошел.
А вот смешная история. Района признал Ицхака образцовым преподавателем, и на собрании какая-то главная "парттетя”, поздравляя ею, протянула ему руку. А руку женщине не положено подавать. Ицхак сделал вид, будто споткнулся и падает, и сунул ей локоть, но руки не подал. Выкрутился!
Из рассказа доктора Яакова Цацкиса
Суккот провел нормально, сидел в сукке. Вечером зашел к завучу. Вижу, он сидит спокойный, в хорошем настроении. И говорит:
- Что-то невероятное. Пришел кассир, стал раздавать деньги, ждут вас. В десять должно начаться собрание. Без десяти десять примчался, как угорелый, инструктор из райкома партии:
- Отмените собрание! Никаких собраний!
И произнес речь:
- Товарищи, основная задача эпохи - борьба с религиозными предрассудками. Учителя должны быть авангардом в этой борьбе. Отдел агитации и пропаганды организует для учителей цикл лекций по диалектическому материализму. Собрание отменяется, все на лекцию!
Вот так я раз в жизни не пошел на работу, не имея оправдательных документов!
В Суккот евреи обязаны не только есть, пить и, по возможности, спать в сукке, но и ежедневно произносить благословение над лулавом. Аулавом называются связанные вместе пальмовая ветвь, мирт и ива (лулав, адас и арава - на иврите). Произнося благословение, их берут в правую руку, а в левой держат этрог, плод цитрусового растения.
Сами понимаете, эти четыре вида растений доставались нам нелегко. Каждый год проблему приходилось решать заново. Иногда мой двоюродный брат Дов-Иосеф присылал посылку из Палестины, иногда какой-нибудь иностранный турист оставлял для нас в Москве ,,арба миним” (,,четыре вида”), один набор на весь город... Но, так или иначе, за все годы моей жизни в Казани только один раз мы провели Суккот без этрога и лулава.
КАК Я УЧИЛ ТОРУ
Советские школы за нехваткой помещения работали в две смены. Откиньте полтора часа на дорогу (это в одну сторону!) и скажите, когда было учиться? Я с трудом выкраивал полторы-две минуты. Полчаса были несметным богатством.
Я учил Тору на переменах. Многое из того, что я помню, я выучил во время школьных перемен.
Времени у меня всегда было в обрез, всю жизнь. Я считал его по минутам. Посетить могилы отца и матери - целая задача. Такси дорого - за всю мою жизнь в Казани я пользовался им всего дважды, второй раз - в дни отъезда в Израиль. Вообще если говорить об “уровне жизни”, то свои первые часы я купил в тридцать два года, с большим трудом, а они мне были позарез нужны. Помню, в юности у меня с отцом было одно пальто на двоих, и моя старшая дочь говорит, что и она и мать носили одно пальто по очереди. Так что с такси все понятно. Трамваем с работы до кладбища - сорок минут, от автобусной остановки до могил - еще примерно столько же. А перерыв у меня - три часа. Получается, только дошел - надо тут же возвращаться. Помолиться на кладбище не остается ни минуты. Я несколько раз пробовал - не успеть. Так я пока шел к могиле, говорил несколько слов молитвы, возвращался - тоже несколько слов...
Мы понятия не имеем, что значит час или даже десять минут, посвященные изучению Торы. Сказано в мишне ”Пеа” (1:1): ”Элу дварим...” - ”Вот то, у чего нет установленной меры: недожин краев поля, приношение первых плодов, дары приходящих в Храм, благотворительность и изучение Торы”. Эту заповедь человек выполняет как может, без предписанной нормы.
Виленский гаон говорит, что каждое слово, произнесенное при изучении Торы (и сам ее текст, и то, что о нем говорится), - это отдельная мицва, выполненная заповедь. Подсчитано, что в минуту человек произносит сто двадцать ־ сто пятьдесят слов. Если учить Тору хотя бы десять минут, сколько это ммцвот получится?!
МИКВЭ В КАЗАНИ
В Казани миквэ не было, ее закрыли еще в двадцатые годы. Женившись, я вместе с еще одним человеком начал тайно строить миквэ.
Нашел место за городом, в бывшем курятнике во дворе частного дома, договорился с хозяйкой. Мы вычистили курятник, вырыли две ямы, большую и поменьше. Теперь нужно было залить их цементом.
Не всякого попросишь о таком деле. Мне повезло: я нашел еврея-строителя по фамилии Верховский,, который эвакуировался в Казань с Украины. Ему пришлось основательно потрудиться несколько недель. Строил он миквэ вечерами, шкэсле работы. Когда я хотел заплатить, Верховский отказался:
- Миллионы евреев убиты, и среди шет. столько женщин, соблюдавших ”тоорат мишпаха” (законы чистоты семейной жизни). Пусть моя работа будет за их души.
Сказал ־ и заплакал.
Миквэ должна содержать определенное количество дождевой воды или воды, образовавшейся от таяния льда. Поэтому бассейн для окунания и емкость для ”живой” воды строят как сообщающиеся сосуды. Я купил на городском холодильнике три кубометра льда, разбил на куски, протер каждый кусок, чтобы не набрались капли (так требует закон), и растопил. Три дня топил я печку в курятнике, пока лед не растаял.
Помню, закончил я всю работу третьего нисана, в годовщину смерти моего дедушки рава Шапиро. Это тоже не случайность.
Миквэ (правда, жена ее иначе как курятник не называла) начала действовать. В то время ею пользовалась еще одна семья. Вода
была ледяная. Мы пытались доливать теплую воду, но этого было недостаточно. Разрешить эту проблему мы смогли не сразу.
Помог нам сам Вишнев, секретарь парторганизации и начальник котельного цеха в лагере, из которого я к тому времени вышел (о лагере еще расскажу)!
Я зашел к нему. Сказал, что теперь он для меня не ”гражданин начальник” (”уставное” обращение заключенных), а ”товарищ” Вишнев. Посидел с ним. Говорил в открытую. Рассказал.ему, что сделал миквэ, объяснил, что это такое (этот еврей понятия не имел ни о чем еврейском!), и попросил подумать, как нагревать воду. Он пошел со мной в миквэ, заинтересовался ־ и придумал, как устроить подогрев.
Арест
ИСТОРИЯ МОЕГО АРЕСТА
Двух учительских зарплат, что получали мы с женой, на жизнь не хватало. Постоянно приходилось в конце месяца занимать. Как-то перед Песах я занял у знакомого пять рублей. Близился Шавуот (между Песах и Шавуот - пятьдесят дней), а я все не мог отдать долг. Меня это очень угнетало. Тут пришел счет за свет, жена дала мне пять рублей, и я отправился платить. По дороге я решил, что лучше нам пожить какое-то время без света, но вернуть долг...
С этого момента и закрутилось... Я вдруг вспомнил, что еще раньше одолжил пять рублей у другого человека, и поехал отдавать ему. В трамвае я подумал: тот, кто дал в долг позже, может обидеться, а этот, который раньше, наверно, нет. Я сошел на полпути с трамвая и пошел к тому, кто мог обидеться...
Дверь мне открыл ...милиционер. Впустить - впустил, а выпустить - не выпускает. В квартире все вверх дном, полно милиции - идет обыск. Меня повели ко мне домой. А у меня под кроватью лежал сверток с облигациями Государственного займа...
Тут, по-видимому, требуется объяснение.
Займы, когда государство берет в долг деньги у своих граждан (только сейчас заметил, что в истории моего ареста все завязано вокруг займа и долга!), практикуются в разных странах. Облигация - вроде расписки государства аимодавцам. В ней указаны срок возврата и проценты, с которыми сумма будет возвращена.
Практиковалась такая система и в Советском Союзе. Но заем “по-советски” представлял собой хитрый трюк. Во-первых, облигации приобретались принудительно, а не добровольно, ежегодно - на сумму месячного заработка. Уклониться от этого было нельзя. Во-вторых, погашение займа, то есть возврат денег, предстоял в неопределенном будущем.
Правда, для утешения владельцев время от времени облигации ”разыгрывались” как бы в лотерею. Кто-то, случалось, и выигрывал.
И возврат, и выигрыш были сомнительны, а люди постоянно нуждались. Поэтому они старались продать ”принудительные” облигации, пусть даже дешевле стоимости. Но торговать облигациями закон запрещал.
Облигации принес мне и попросил спрятать один знакомый - пенсионер Моше Народович. Пенсии на жизнь не хватало, и он из каких-то своих расчетов скупил по дешевке большое количество облигаций, но держать у себя боялся. У меня же, он был уверен, искать не станут:
- Если что случится и все-таки найдут, скажешь, что это мои, - и написал на одной облигации свою фамилию.
Жена была против:
- Ицхак, я боюсь!
- Чего ты боишься? - успокаивал я. - Мы же ничем таким не занимаемся, у нас искать не будут.
Естественно, при обыске эти облигации тут же нашли. Когда спросили, чьи они, я сказал - мои. Думал, Народович - человек пожилой, ему арест перенести труднее. А я как-нибудь выкручусь: учитель все-таки, и репутация у меня неплохая.
Меня арестовали. Было это как раз накануне Шавуот.
Следующий обыск произвели ночью (дети проснулись, расплакались). Жена, предвидя его, сожгла все, что ей казалось подозрительным. Так пропало много дорогих для нас, а может, и не только для нас, фотографий и писем.
Началось следствие. Каждый раз перед допросом меня ставили в маленькую, как телефонная будка, камеру. Спустя несколько минут я уже чувствовал, что задыхаюсь, вот-вот умру... В последний миг меня оттуда выволакивали и вели к следователю. (Потом о таких пытках я читал у Солженицына.)
Полшю имя следователя - Старовер. Он кричал на меня:
- Нет угла, где торгуют облигациями, которого бы я не знал! И тебя там ни разу не видел! Признавайся, чьи они?
Я отвечал:
- Мои.
Допросы были мучительные. Недаром говорят заключенные: полчаса у Следователя - как год в лагере. Когда меня привели на допрос в первый раз, там сидело человек пять. Заговорили они вовсе не об облигациях:
- Мы знаем, ты человек верующий. Объясни нам, что это за Б-г такой. У русских он один, у татар - другой, у евреев - третий. И все говорят, что их Б-г - самый правильный. И вообще - как можно в него верить? Вот мы боремся с религией, закрываем церкви и синагоги. Что же он не вступится, если он есть? Где же он?
А потом и вовсе сменили тон:
- Знаешь что? Мы сейчас не следователи. Просто люди, товарищи. Сидим разговариваем, никому ничего докладывать не собираемся. Докажи нам, что есть Б-г!
Я задумался: говорить или нет? Я чувствовал какой-то подвох. Вдруг они собираются использовать мои слова против меня? Ведь это очень может быть! Что облигации? Облигации - ерунда! Ну, осудят на пару лет. А вот если добавить обвинение в ”религиозной пропаганде”, дело станет посерьезней.
Один следователь, еврей, не задавал никаких вопросов, а сидел молча, но как-то напряженно. По лицу я понял, что ему трудно видеть эту игру. Внезапно он вмешался:
- Знаете, товарищи, мы его не изменим и он нас тоже менять не хочет. Давайте говорить о деле, - и прервал ”дружескую” беседу.
Только тогда я осознал, насколько это было опасно.
Прошло время. Как-то меня вызывают на допрос к этому следователю, Пиндрус его фамилия. Он говорил со мной очень доброжелательно, спросил, чем можно помочь. Я сказал:
- Жена сидит без копейки, а мне в школе положена зарплата. Дайте указание, чтобы ей быстрее выдали деньги.
И он это сделал.
Народович услышал, что меня взяли, пришел в милицию и заявил, что это его облигации, полагая, что меня сразу отпустят. Но вышло только хуже: меня не отпустили, а его посадили, да еще и оформили дело как ”групповое преступление”, а за это, сами понимаете, полагался больший срок.
Потом был суд. Год пятьдесят первый - самое время сталинских репрессий и антисемитских кампаний, так что свое я получил. Отсидел я два года и вышел по амнистии.
Арестовали отца накануне Шавуот, вышел он из лагеря тридцатого нисана. В этот день он всегда надевает талит своего отца и дает нам, своим детям, благословение.
Из рассказа рава Бенциона
ТЮРЬМА
Условия в тюрьме во время следствия были невыносимые. Сорок три человека в тесной камере, жара, спертый воздух и две открытые параши - большие ведра для отправления надобностей. Я стеснялся ими пользоваться на людях, ходил только ночью, когда все спали. В туалет выводили дважды в сутки: в шесть утра и в шесть вечера - и всего на десять-пятнадцать минут.
Уголовники приметили мое состояние и, когда нас выводили в туалет, нарочно занимали кабинки и сидели до последней минуты, чтобы я не успел войти. Оправка превратилась для меня в страшное мученье, я чувствовал, что погибаю.
Вскоре я заболел дизентерией. Десятого тамуза пятьдесят первого года - в субботу и день рождения моей дочери - я совершил омовение рук и хотел в честь субботы съесть кусочек хлеба. Но не смог проглотить ни крошки. У меня не было сил выйти на прогулку, и я просил, чтобы меня оставили в камере. Не разрешили. Я вышел, прошел два шага и упал...
Очнулся я в тюремной больнице. А придя в себя, узнал, что тут столько же шансов выздороветь, сколько подцепить что-нибудь новенькое. Диагнозы у моих соседей по палате были хуже некуда: открытая форма туберкулеза, сифилис, еще что-то страшное... Я поспешил вернуться в камеру.
Была еще проблема. Мне выдали одеяло, но я не знал, не ”шаатнез” ли это (евреям запрещено пользоваться шаатнезом - смесью шерсти и льна), и не мог им укрываться.
У моего русского соседа по камере было хлопковое одеяло. Я предложил ему поменяться.
- Зачем тебе?
Я объяснил, в чем дело. Он вскипел:
- Расстреливать вас надо! Из-за таких, как вы, мы не можем построить социализм!
Кипел - просто ужас.
Через три дня его переводят в другую камеру. Он сам подходит ко мне с этим одеялом и говорит:
- На, бери!
Чего, спрашивается, он так подобрел? Не знаю. Все равно - спасибо.
А как быть с молитвой, с благословением после трапезы? В камере открытые параши, а молиться в зловонном месте запрещено.
Надо отдалиться не меньше чем на четыре амот (четыре локтя). Пришлось на время молитвы накрывать одну парашу пиджаком, а вторую - пальто, чтобы запаха не было, а поскольку и это не очень помогало - искать в переполненной камере место, отдаленное от них на четыре локтя. Так я молился.
Про отношения с сокамерниками я уже говорил. Им-то, может, их выходки и казались смешными, но мне было не до смеха. Как-то принесли в камеру посылки из дому и дали карандаш расписаться в получении. Все расписались, надзиратель требует карандаш обратно, а карандаша нет!
Ищут-ищут - куда он пропал? Все показывают на меня, будто это я взял.
Надзиратель говорит:
- Жду пять минут. Не отдадите - камера лишается передачи на месяц.
Угроза угрозой, а оставить карандаш в камере он в любом случае не имеет права. Обыскали всю камеру и нашли... у меня, в моей постели!
Как они его подкинули - не знаю, на то они и мастера своего дела. Просто повезло, что тюремщики меня не наказали.
После вынесения приговора заключенных из тюрьмы переводят в лагерь. Со дня на день меня могли отправить неизвестно куда. Выручил рав Пионтак, ”дер Тулер ров” - бывший раввин города Тулы. Если бы не он, не знаю, что бы со мной было.
Рав Пионтак сказал моей жене, что ведет переговоры с человеком, который работает в лагере возле Казани, чтобы меня перевели в этот лагерь. Переговоры затянулись, а результатов нет. Гита моя сообразила, в чем дело, добыла денег, и уже назавтра меня перевели в лагерь в двадцати километрах от Казани.
Тулер ров помог моей жене и в другом. Гита была новым человеком в Казани - всего пять лет в городе, и когда меня посадили, ей было очень тяжело. Все говорили: ”Ее муж такими делами никогда не занимался. Это она виновата. У них тяжелое материальное положение, вот она и вовлекла его в эту аферу”. Мне кажется, именно рав Пионтак прекратил эти разговоры.
ПЕРВЫЙ ШАБАТ В ЛАГЕРЕ
Жена потом шутила, что с курорта не пишут таких писем, какие я писал из лагеря: ”Здесь очень хорошо, в туалет хожу, когда пожелаю, весь день работаю на свежем воздухе...”
Когда меня привели в лагерь, подошли двое заключенных и один из них спросил на идиш:
- А ид? (Еврей?)
- Да.
Он говорит:
- Чем помочь?
Я отвечаю:
- Не хочу в субботу работать.
- Ладно, - говорит, - в пятницу в шесть (вечером, в смысле) придешь, будет тебе больничный.
Я очень обрадовался. Но воспользоваться бюллетенем не пришлось. Почему? Потому что я по-настоящему оказался в больнице.
Меня направили на лесоповал. Вдвоем с напарником мы должны были таскать и складывать бревна. Чтобы уложить бревно, мы по узкой доске поднимались на верх штабеля: он впереди, я сзади.
Подъем был крутой, я боялся упасть и шел осторожно. Напарник заметил это и, как только я ступал на доску, начинал на ней приплясывать, чтобы меня напугать. Так он плясал во вторник, в среду, а в четверг я сорвался и упал вместе с бревном. Счастье, что очки сразу свалились, а то бы остался без глаз.
Расшибся я основательно, если судить по тому, что продержали меня в лагерной больнице три недели, а там ”просто так” не лежат. Левая рука у меня так и не восстановилась полностью. Я лежал забинтованный и себя не помнил от радости - три шабата свободен! Найди я клад в миллион долларов, и то, наверно, так бы не радовался.
Но прошли три недели, и вот меня выписывают, да еще перед самой субботой. Что делать? Когда в субботу меня погнали работать, я сказал, что у меня еще болит рука. Бригадир обратился к врачу, тот говорит:
־ Раз я выписал, значит, может работать.
Бригадир стал меня бить. Я убежал и спрятался в сломанной лодке: их там много было на берегу реки (река тоже была в зоне).
В двенадцать часов идут обедать. Слышу, один заключенный говорит: ”Смотри, кто-то лежит в лодке”. Что делать? Если охранники меня обнаружат, не миновать обвинения в саботаже. Вижу, прямо в мою сторону идут несколько заключенных, и среди них тот самый еврей, который обещал мне больничный, - Семен Семенович Лукацкий. Он был еще довольно далеко, но, что называется, в пределах слышимости. Я подумал: он все-таки одессит, идиш, наверно, знает. И шепчу:
- Семен Семенович, фарклап зей дем коп (”заморочь им голову”).
Это чтоб меня не заметили. В ответ раздается бодрый голос:
- Между прочим, сегодня в газете - статья великого Сталина (заключенный, понятно, Сталина назвать ”товарищем” не может). Экономические проблемы при строительстве социалистического общества. Такая глубина мысли! Хотите, почитаем?
Кто посмеет отказаться? Остановились, и он начинает читать и комментировать. Болтает, болтает, вдруг я слышу:
- Как говорит известная латинская пословица, баалт зих ин а цвейтн орт (на идиш - ”спрячься в другом месте”).
И чтение продолжается.
Я потихоньку выбрался из лодки, прошел метров сто и спрятался под другой. Была осень, шел дождь. Много часов я пролежал, не поднимая головы.
Кончился рабочий день. Без четверти пять прозвучал гудок отбоя, а я все лежу - ничего не слышу.
Заключенных выстроили, пересчитали - одного не хватает. Стали искать и нашли меня только через сорок пять минут.
Сорок пять минут люди стояли под холодным дождем, а в столовой стыла еда. Вы представить себе не можете, что творилось, когда меня нашли... Каждый готов был разорвать меня на тысячу кусков:
- Из-за этого жидка столько мок! В столовую опоздал!
Я с ужасом думал: ”Ведь это только первая суббота!”
В этот вечер я читал ”слихот” (покаянные молитвы перед Рош-а־Шана - Новым годом) так сосредоточенно, как, может, молился раз в жизни - когда в Столбищах сбился с дороги и замерзал. Меня не покидала мысль, что Б-г укажет мне путь.
И я опять увидел, что есть Тот, Кто слышит молитву. Кончил я молиться, вышел на улицу 1 и встретил Кольку-нарядчика. Нарядчик - это человек, который направляет на работу. Я говорю:
- Слушай, Коля! Ты видишь, с бревнами у меня не получается. Я хочу другую работу.
Он спрашивает:
- Какую?
А Лукацкий меня уже научил, что просить.
Кстати, о Лукацком. Старый коммунист из Одессы, он оставил семью, поехал в деревню, где никак не удавалось добиться ”сплошной коллективизации” (Сталин сгонял крестьян в колхозы, а они как могли сопротивлялись), три года там провел - и все для того, чтобы довести район до нужной кондиции. Не видел и не понимал человек, что делает. Большой грех взял на душу!
Гита с Сарой и Бенционом
Сел он за какую-то финансовую ерунду - он был директором типографии. Он и в лагере был такой же: хлебом не корми - дай поговорить о марксизме-ленинизме!
В лагере мы сблизились и продолжали встречаться и на воле. Я жалел его жену: она тяжело переживала, что сын женился на русской и внуки у нее - неевреи. Тихий, покладистый парень, сын ее любил детей, дорожил семьей - что тут поделаешь? А я сказал: ”Ничего, уладится”. И вдруг - ни с того, ни с сего - жена Лукацкого-младшего взбрыкнула и потребовала развода. Вторым браком парень женился на еврейке. Осуществилось мое благословение. А Семен Семенович, выйдя из лагеря, уже зажигал ханукальные свечи и стал немножко выполнять мицвот!
Итак, Лукацкий меня научил, что просить.
- Надо, чтобы ты ни от кого не зависел, - сказал он. - Есть работа - воду носить для умывания. (Водопровода там не было.) Конечно, натаскать воды на три тысячи человек одному трудно, но, если будешь один, как-нибудь выкрутишься в субботу.
Поэтому я сказал Кольке:
- Хочу носить воду для умывален.
Он говорит:
- А что я с этого буду иметь?
- Двадцать пять, - говорю, и тут же вручаю ему пятнадцать рублей - аванс, так сказать.
С того вечера у меня появилась возможность не работать в субботу. И я носил воду до конца срока.
В лагере
БУДНИ И ПРАЗДНИКИ
Спустя месяц после моего прибытия в лагерь наступил праздник Рош-а-Шана. Молитвы я знал наизусть, но все-таки хотелось иметь махзор (сборник праздничных молитв): кто-нибудь еще мог бы по нему молиться. Верьте - не верьте, но махзор мне принес секретарь парторганизации лагеря, еврей Вишнев.
Как я не побоялся прийти к нему с такой просьбой? А я убедился, что он, несмотря на коммунистическое воспитание, человек честный и порядочный. Когда нас никто не слышал, я с ним спорил о Сталине, доказывал, что у того нет пророческого дара (Сталину приписывались самые исключительные качества, включая провидение; опровергать это было смертельно опасно). Не знаю, действительно ли Вишнев так думал, но вот как он объяснял мне плохое отношение к евреям:
- Представь себе, что у отца два сына. Один работает, делает все, что требуется, а второй отлынивает, любит пенки снимать. Наступает праздник. Кого посадить во главе стола? Того, кто отлынивает и ничего не делает, или того, кто работает, старается? Русский народ строит социализм, а евреи - отлынивают. Они или в торговле, или в науке.
Тем не менее я спросил:
- Если я дам тебе адрес и попрошу принести книгу, принесешь?
- Принесу, - говорит.
И он принес мне, кроме махзора, мишнает, Танах и даже карманного формата Агаду. Агада ־ рассказ об исходе евреев из египетского рабства; его читают во время праздничной пасхальной трапезы, которая называется Седер Песах. Передавая книги, Вишнев предупредил:
- Даже если тебя будут резать на куски, не говори, кто принес.
В девяносто втором году я проводил Седер Песах в ешиве в Москве. Стал рассказывать, как проводил Седер в лагере. Упомянул Вишнева.
Двое из присутствующих оказались супругами из Казани. Они вернулись домой, нашли сына Вишнева (сам Вишнев уже умер), рассказали ему, что произошло, и сын Вишнева тут же приехал в Москву повидаться со мной. Он обнимал меня, плакал и говорил:
- Мне тогда было пять лет, но я полдню, как папа рассказывал, что в лагере есть еврей, который не работает в субботу.
Я с ним почитал немного Танах, он внимательно, с интересом слушал. Я научил его читать ”Кадиш”, и он прочел за отца и за мать.
Ну что, не пропала доставка махзора там, на том свете? Не пропала! Один этот ”Кадиш” чего стоит!
А на днях Иосиф Вишнев позвонил мне в Иерусалим и просил молиться за него - ему предстоит тяжелая операция.
Значит, лагерь тоже был не зря. Может, я сидел для того, чтобы сын Вишнева позвонил мне с такой просьбой.
Итак, махзор на Новолетие у меня был, и в первый день Рош-а-Шана мы вместе с еще несколькими евреями тайком молились.
Едва мы закончили, в лагере вспыхнул пожар. Мгновенно началось столпотворение. Лагерь весь в дыму и огне, заключенные и охрана мечутся, крики, распоряжения, паника. Усилия надзирателей были направлены не столько против пожара, сколько против заключенных ־ как бы не разбежались! Нас загнали в какую-то комнату, полную дыма, и заперли.
Это было страшно. Только что мы читали молитву ”У-нетане токеф”: ״Поведаем о святости этого дня, ибо он страшен и грозен...” Только что мы произносили: ”В новолетие приговор записывается... скольким отойти и скольким быть сотворенными, кому жить и кому умереть... ми ба-маим у-ми ба-эш - кому смерть от воды и кому - от огня...” И тут же - часа не прошло! - горит весь лагерь! Сгорел внешний забор, часть бараков, административных зданий... Вероятно, и люди погибли...
Благословен Всевышний, я остался жив. Жене сперва сказали, что я среди сгоревших. Сколько она пережила!..
В Йом-Кипур, как и в Рош-а-Шана, я постарался, чтобы со мной молились еще несколько евреев. Мы договорились, что выйдем на работу попозже (на полчаса-час, в лагере целый день не помолишься!), выждали, пока все ушли и барак опустел. Если кто-то заходил на пару минут, мы прекращали молиться.
Я внушил всем заключенным-евреям, что в Йом-Кипур необходимо поститься и работать нельзя. Если же человек вынужден работать, он должен хотя бы отложить на завтра то, что можно. С каждым по очереди (все сумели найти по паре минут) я выполнил ”капарот” - обряд искупления накануне Йом-Кипур.
На исходе Йом-Кипур ко мне заглянул один заключенный:
- Слушай, у меня вопрос. Работать, ты сказал, нельзя. А курить? Я подумал, - говорит, - и решил, что все-таки, наверно, не надо.
Ничего эти люди не знали. До ареста этот человек был видным деятелем профсоюза.
Эту историю о моем отце я услышала от рава Зильбера, который в Ташкенте был нашим соседом.
Отец был осужден на десять лет за помощь советским евреям, которые полулегально״ через Львов перебирались в Польшу, откуда уже можно было свободно двигаться дальше: и в Эрец-Исраэль, и в другие страны. Во Львове они приписывались в качестве ”родственников״ к евреям - польским подданным. Кто-то донес властям. Всех, кто стоял во главе этого дела, забрали. Папа был обвинен по пятьдесят восьмой статье - ״государственная измена״. Отец отсидел почти полностью, а когда Сталин сгинул, получил бумажку, где сообщалось, что он реабилитирован и все обвинения с него сняты
В лагере отец, естественно, не ел ничего вареного. Более того: он не ел даже хлеб, потому что его резали общим ножом. Уголовники, которые сидели с ним вместе, уважали его за твердость и приносили ему буханку, чтобы он первый своим ножом отрезал свою долю.
Когда папы не стало (это было уже в Израиле) и мы сидели ”шива”, рав Зильбер приходил, сидел с нами. Тогда он и рассказал нам эту историю, которой мы не знали.
Как-то у папы выдалось в лагере хорошее время: его приставили к котельной. Он растапливал печь по ночам, чтобы к утру вскипятить воду для заключенных. Это позволяло не жить в общем бараке и утром молиться не на глазах у всех.
Был там один ужасный тип, который отцу очень досаждал. Перед Йом-Кипуром папа прямо обратился к нему:
- Завтра такой день, что, прошу, меня не трогай. Расплачусь, чем только смогу.
Тот спросил:
- Почему?
- Завтра Судный День, я буду молиться, не мешай мне.
- Когда он начинается?
- Завтра вечером.
На следующий вечер этот уголовник пришел. Папа не знал, чего от него ожидать. Он просто стоял и молился в углу: будь что будет! (До последних дней жизни в Иом-Кипур папа никогда не садился, все молитвы читал только стоя.)
Бандит встал в противоположном углу, и все время, пока папа молился, там стоял. То ли тоже молился, то ли охранял папу.
С тех пор он не трогал папу. И каждый Иом-Кипур, до самого выхода папы из лагеря, приходил и стоял в сторонке.
Из рассказа Софы Трегер, дочери Шмуэля Бенсчинского, ташкентского соседа Зильберов
Коллективную молитву мне организовать удалось, а вот миньян за все время заключения я смог собрать только один раз - в йорцайт отца. Но - молились они или не молились ־ стукачей среди евреев не было.
Все, что мог, я старался строго выполнять. Только в Суккот я не смог ни построить сукку, ни раздобыть ”четыре вида”. Есть правило: если выполнить мицву невозможно, человек от нее освобожден. Но действительно невозможно - при всех усилиях. Думается, на меня такое освобождение в этом случае распространялось.
Я молился всегда в определенное время - до работы.
Помню, однажды меня вызвали к начальнику лагеря. А я стоял и читал ”Шмонэ эсре”. Естественно, я и не двинулся. Пришли снова, раскричались. Я стою. Кто-то из заключенных говорит:
- Есть у него это: если он так ”стоит”, убей - ничего не сделаешь.
Пришлось им подождать, пока я кончу молиться.
ТФИЛИН
Я просил жену отыскать для меня в Казани самые маленькие тфилин. В октябре жена пришла ко мне на свидание вместе с детьми. Сару - ей было тогда четыре года - дали мне на руки. Трое надзирателей не спускали с нас глаз.
Я знал, что в одном валеночке у Сары спрятаны головные тфилин, а в другом - наручные. Я посадил ее на колени, положил ногу на ногу (а был я в больших широких валенках). Держу девочку, снимаю с нее валеночек, переворачиваю его прямо над моим валенком. Тфилин падает из ее валенка в мой. Я загоняю его под стопу. Повторяю все со вторым валенком. Готово!
Свидание окончено. Обыск. У меня ничего не находят.
Следующая задача - где хранить. Обошел весь лагерь - ничего подходящего. Наконец набредаю на барак, где в углу свалена куча изорванных валенок. И пространство - сантиметров в тридцать-сорок шириной - отгорожено занавеской. Говорю себе: ”Этот барак приготовлен Всевышним для меня - чтобы прятать тфилин”.
Иду к старосте барака:
- Михаил Иваныч, хочу у тебя в бараке жить.
В ответ - традиционный вопрос:
־ А что я с этого буду иметь?
Ну, тут уж просто:
- Тебе положено мыть полы и приносить шесть ведер кипятка утром и шесть - вечером. Буду носить за тебя кипяток и полы мыть помогу.
На том и поладили.
Теперь я мог прятать книги под валенками за занавеской. Оставлять здесь на весь день тфилин я все-таки не решился: вдруг это место вздумают расчистить! Каждое утро я надевал там тфилин, потом прятал их в карман пальто, а пальто сдавал в каптерку - что-то вроде камеры хранения, куда заключенные сдавали сколько-нибудь ценные вещи: часы, деньги. Наутро, в полшестого, я брал пальто, надевал тфилин, молился и опять сдавал пальто в каптерку. Что думали про мои манипуляции, я не интересовался.
Из-за этого все два года в лагере я работал на улице в одном пиджаке, а зимы в Татарии суровые: минус двадцать - двадцать пять, а то и тридцать пять градусов. Страшно мерзли руки и уши, но я ни разу не простудился. (Удивительная вещь: выйдя из лагеря, я одевался тепло и все-таки, подхватил воспаление легких.)
ЛАГЕРНЫЙ НОТ
Знаете, что такое НОТ? Научная организация труда. Хоть я и не специалист в этой области, однажды пришлось заняться и этим.
Воду я таскал ведрами из проруби на реке Казанке. Как справедливо заметил Лукацкий, работы было минимум на пятерых. Но я старался справиться один, потому что мне это было выгодно. Я ни от кого не зависел и был доволен, что успевал до захода солнца в пятницу натаскать воды, чтобы хватило до полудня в субботу. Оставалось еще от полудня до исхода субботы. Помогали заключенные, за три-пять рублей, пайку хлеба...
Сказано у Рамбама (Законы об изучении Торы, гл. 1 п. 8): ”Коль -мтгт ве-иш ми-Исраэль...” - ”Каждый еврей обязан учить Тору... беден он или богат, здоров или болен, молод или стар; даже бедняк, который просит по домам и обременен семьей, должен найти время учить Тору днем и ночью”. И до какой поры? Сказано: все дни твоей жизни.
Великие мудрецы, чьи имена упоминаются в Талмуде, зарабатывали на жизнь нелегким трудом: и воду носили, и дрова рубили, но всегда занимались Торой.
Я искал время для занятий. Но как его найти, если я ношу воду с половины шестого утра до половины восьмого вечера и прихожу в барак совсем без сил?
Нормальным шагом ”рейс” с ведрами от реки до лагеря занимал час. Я попробовал передвигаться беглым шагом - вместо часа получилось сорок пять минут. Я стал работать бегом. Сорок пять минут нес ведра с водой от реки к лагерю, на пятнадцать минут забегал в барак за занавеску, где спрятаны Танах и мишнает, - и опять бегом к реке.
Говорят, чередовать физический труд с умственным очень полезно. Я и чередовал.
Работал я примерно четырнадцать часов - значит, учился часа три, три с половиной. Три с половиной часа - да мне и сегодня трудно выкроить столько для учебы! Так я выучил наизусть мишнает ”Рош-а-Шана”, ”Юма” и другие, хоть сейчас в любом месте откройте - скажу... Это осталось от лагеря. И еще я разобрал в лагере трактат ”Киним” (его мне тоже принес Вишнев). На воле я его учил I не понимал, а здесь - понял.
Камера освещалась слабой сорокаваттной лампочкой. Было, правда, еще и окно, но оно так обрастало льдом, что практически не пропускало света. Почти не проникал свет и через занавеску, за которой я прятался.
Долго я мучился, пока в конце концов не приобрел способность читать в темноте. Она у меня по сей день сохранилась - иногда я демонстрирую ее своим слушателям: выключаю свет, накрываюсь с головой талитом - и читаю.
Бригадир-татарин был доволен моей работой. Кроме того, что я носил воду, я очищал территорию от снега и льда и вообще выполнял все его просьбы. Он был человек порядочный, и я был с
ним откровенен: ’,Давай мне сейчас любую работу - все сделаю. Но на Пасху два дня я работать не буду”.
Договорился и со старостой барака: мытье полов и доставка кипятка на субботу и Песах отменяются.
Что же он сделал? Он поступил некрасиво.
В Песах в барак зашел мой бригадир. Староста специально при нем предлагает мне помыть пол:
־ Давай, помоги.
Я ему напоминаю:
- Мы же договорились, что сегодня я не мою.
Он поворачивается к бригадиру:
- Нет, ты глянь! Для нас с тобой нет праздника, а Зильбер что-то там празднует. Работать отказывается.
Бригадир спокойно отвечает:
- Да, ни у кого нет праздника, а у него - есть. Он договорился со мной, все сделал заранее, пусть сегодня отдыхает.
Староста остался с носом. И хотя я еще долго жил в этом бараке, помогал мыть полы, носил воду, но никогда с ним не разговаривал.
НОВЫЙ БРИГАДИР ГАЙНУЛЛИН
Так я устраивался, пока мой бригадир не вышел на свободу. На его место назначили некоего Гайнуллина. Вредный тип оказался. Несмотря на то, что в воде недостатка не было, он заметил, что в субботу я воду не ношу, и решил заставить меня нарушить субботу.
Расскажу только два случая, а их было много.
В мою обязанность входило мыть пол в умывальной комнате. В пятницу я вымыл, а в субботу утром по договоренности пол вымыл другой заключенный. Вымыл очень добросовестно.
Гайнуллин приходит в девять утра и тычет в пол ногой:
- Грязь развели!
Добивается, чтобы я сам мыл. Я опять нашел кого-то, тот помыл
Гайнуллин приходит в двенадцать ־ спустя три часа, и опять:
- Пол грязный, надо помыть.
Я снова нашел помощника.
Является через три часа, опять топает в пол Я нашел еще мойщика Так Гайнуллин пришел в пять и снова топает: ”Пол не помыт”.
Тут я сколько ни искал - нет желающих подзаработать. Что делать?
Нашел я одного русского старика, лет под семьдесят. На фоне других - человек более или менее приличный, верующий. Лежит, бедняга, больной, без сил.
Я прошу:
- Выручи, пожалуйста. Ты ведь знаешь, я в субботу не работаю. А бригадир заставляет. Получишь все, что скажешь.
И он, больной, поднялся и помыл пол.
Второй случай. В ночь с пятницы на субботу, часов в двенадцать, меня вдруг будят. Пришел Гайнуллин еще с одним заключенным, с двумя лопатами:
- Что, Зильбер? Спишь себе? А завтра с утра, между прочим, комиссия приезжает. Сам министр внутренних дел из Москвы! А на территории уйма хлама! Надо убрать. Вот вы вдвоем и идите. Площадь большая, но за ночь управитесь. К шести утра чтоб было готово.
Что тут возразишь? Да у меня и привычки такой нет - спорить. Одеваюсь, иду. На улице мороз за тридцать и метель. Снег колет лицо.
Лопаты нес напарник, а я вот что сделал. По природе я нетерпелив, всегда тороплюсь и действую быстро. Но тут я усмирил свой ”ецер а-ра” (дурное побуждение) и стал тянуть время. Дожидаюсь, пока Гайнуллин промерзнет и уйдет.
Пришли на место. Бригадир показывает, как и что.
- Ладно, - говорю и не спеша завязываю ушанку. Потом начинаю застегивать пальто, тоже очень тщательно - холодно ведь!
Так, рукавиц нет! Надо найти. Суечусь, ищу. Одну нашел, второй не хватает...
Короче, минут за двадцать он дошел - метель была нешуточная. Повернулся, буркнул: ,,Чтобы к шести кончили” - и удалился. Я говорю напарнику:
- Слушай, заплачу, сколько скажешь, только сделай работу сам.
И вернулся в камеру.
Конечно, все оказалось враньем: никакой министр не приезжал, Гайнуллин это для меня выдумал.
А потом он придумал кое-что похуже: разнюхал, видно, негодяй, что я за занавеской читаю.
Было общее собрание. Гайнуллин отчитывался за чистоту территории и снабжение водой:
- В смысле воды и чистоты сейчас все в порядке, одно нехорошо: не могу заставить Зильбера работать в субботу.
Начальство, как услышало, расшумелось:
- Что этот Зильбер себе воображает? Он где - в Америке, в Израиле или в лагере в Союзе? Что значит - не работает! А чем он занимается?
Гайнуллин распустил язык:
- Я слышал, какие-то книжки читает.
Тут бы мне плохо пришлось, но случилось чудо. К Гайнуллину подошли с двух сторон и схватили его за горло.
Это были два удмурта, старые лагерные волки. Высокие такие, здоровые. Сроки у них были большие, за что - не знаю, но таких страшных людей я в жизни своей не видел. И не сказать, что ко мне хорошо относились, - изводили как могли. Но Гайнуллина они предупредили:
- Ты сколько в лагере? Три года? А мы семь лет. И все семь лет мучились с водой и скандалили из-за нее! А с тех пор, как воду Зильбер носит, все в порядке. Так что будешь болтать - придушим прямо здесь. Ну, накинут пять лет к сроку - наплевать.
Никто не посмел вмешаться: шевельнешься - они его задушат, и все. Гайнуллин перепугался, ”сменил пластинку” - и все как-то замялось.
ЗАГАДОЧНОЕ ПРЕОБРАЖЕНИЕ
Как видите, нельзя сказать, что в лагере царили дружелюбие и добрые нравы. Но один из уголовников, некто Уваров, делал мою
жизнь просто невыносимой. Порой я впадал в отчаяние от его злобных выходок.
Это был человек лет сорока, с опытом нескольких отсидок. Почему он так стремился причинить мне зло, не знаю. Да это и не важно.
Заметив, что я очень дорожу своим закутком, он сломал балку, на которой держалась занавеска. Это было ужасно. Негде стало учиться, негде молиться...
Уваров занимался ремонтом инструментов. И вот, вместо того, чтобы починить вещи, которые я ему отнес, он передал их начальству: мол, Зильберу выдали, а он изрезал и выбросил. Или ломал мои метлы и лопаты и закидывал обломки на крышу. Короче, искал любой возможности мне навредить...
Вдруг в пятницу Уваров подходит ко мне:
- Слушай, ты же ищешь людей, чтобы для тебя в субботу носили воду? Больше не ищи. Я буду носить за тебя каждую субботу. Ты только ключ от умывальни повесь вот здесь, а я отарою и все сделаю.
Кто-то из евреев, услышав это, пошутил:
- Думает, видно, что ключ - мукце (запрещенная в субботу вещь, в шабат к ней нельзя прикасаться. - 14.3.).
Уваров выполнил обещание. Вплоть до его выхода из лагеря мне ни разу не пришлось никого просить: вода всегда была принесена, пол вымыт. Я ему платил, конечно.
Отчего Уваров так изменился, я не спрашивал. Но другим было любопытно. Оказалось, во сне его предупредили, что если он не хочет себе беды, то должен не вредить мне, а напротив - помогать. (В моей жизни было два таких случая. О втором, с Ахмано-вым, я еще расскажу.)
Сон произвел на Уварова такое сильное впечатление, что однажды он даже пошел на ”месирут нефеш” (буквально - предание души, то есть самопожертвование с риском для жизни).
Заключенным делали прививку. Опытный зек, Уваров полагал, что укол может быть опасен для здоровья, и категорически от прививки отказался. Его уговаривали, ругали, угрожали карцером - он не отступил. А когда процедура уже заканчивалась, вдруг подошел и говорит:
־ Ладно, делайте.
Его спросили:
- О чем же ты раньше думал? И почему все-таки согласился?
Он объяснил:
- Вспомнил, что завтра суббота!
Он не хотел попасть в карцер, потому что тогда некому будет мыть полы и носить воду. Не хотел нарушить обещания.
Все звали Уварова Федькой, хотя ему было уже лет сорок. Он сидел семь раз. Ум у него был замечательный, голова работала ну просто невероятно. Умнейший был человек. Все понимал. И в людях, и в отношениях между людьми, и вообще в жизни.
На Песах я Уварову и хамец продал. Все дни Песах нельзя не только есть продукты из кислого теста, но и ”владеть” ими; их можно заблаговременно продать нееврею, что мы и сделали: отдали Уварову все свои сухари, - Я ему объяснил: - Нам нельзя будет в течение восьми дней пользоваться хлебом. Мы тебе продаем все, что у нас останется к началу праздника.
Денег у него не было. Я дал ему полтинник, он отдал мне его как задаток, и все было продано по закону. Уварову же мы отдали и восьмидневный хлебный паек на пятнадцать человек. Он, конечно, был рад.
Так он помогал мне с полгода, пока не вышел на волю.
ЖУЛИК ЛИ ЗИЛЬБЕР?
В лагере сидели и несовершеннолетние, двенадцати - пятнадцатилетние дети. Их называли ”малолетки”. Это были совершенно отчаявшиеся ребята, опасные, как дикие звереныши. Мимо камер малолеток страшно было проходить: бросали стеклянные осколки в голову. А не проходить я не мог - воду носил. Каждый раз иду дрожу - молюсь, чтобы не попали.
Кое-как я установил контакт с некоторыми из этих ребят, пробовал давать тем, кто постарше, уроки математики, пытался наладить их отношения с родителями, которые их навещали, но у меня, к сожалению, оставалось очень мало времени после работы.
Я старался поддерживать с людьми нормальные отношения, дружил и беседовал со всеми. Со всеми, кроме двоих.
Один, русский, до лагеря был главным инженером одесского завода им. Андре Марти и продолжал работать на этом заводе во время оккупации. Он пытался со мной заговаривать, объяснить свой поступок, но я не мог говорить с тем, кто помогал немцам.
Второй был еврей, главный бухгалтер Казанского университета. Он постоянно высмеивал евреев, говорил о них всякие гадости. Рассядется и начинает:
- Праведники-то эти - да они все обманщики! Только очки втирают, будто верующие.
И рассказывает про еврейские законы. Мол, есть мясо животного, зарезанного неевреем, нельзя, а шохета нынче днем с огнем не сыщешь:
- Кто в наше время рискнет резать для них? А они же мясо едят! Жулики! Все как один жулики! Едят трефное (некашерное мясо), а прикидываются верующими.
Или расскажет, что в субботу нельзя работать. Или еще что-нибудь...
Из-за его ”откровений” не оставалось никакой возможности соблюдать законы тайно. Это было страшное предательство.
Однажды в перерыве сидит он, как всегда, со своей колшанией, среди них - Азат, татарин, карточный шулер. Плохой был человек. Как-то проигравший стал его обвинять в мошенничестве, так Азат разбил ему голову лопатой.
Сидит этот ”бухгалтер” и болтает на любимую тему - про евреев. А я ношу воду и, проходя мимо них, слышу обрывки разговора. Кто-то оратору возражает:
- А вот Зильбер как же? Он вроде не жулик!
- Тоже жулик. Наверняка.
־ Что-то непохоже.
- Думаете, честный? По еврейскому закону нельзя бриться лезвием. А он же без бороды!
Тут я удаляюсь и ответа не слышу. Потом узнал: кто-то ему объяснил, что я бреюсь машинкой, - сам, мол, в бане видел.
Опять прохожу с ведрами и слышу:
- Все равно жулик!
Слушатели:
- Да в чем?
Он начинает рассказывать про Песах: что хлеб нельзя есть, и так далее. (Страшно было слушать: ведь мы могли жить *в лагере по законам Торы только потому, что никто вокруг не знал, что мы делаем.)
Какой-то старый татарин говорит ему:
- В Песах, мы видели, он и еще один еврей ели что-то белое, мацу.
И в следующий раз слышу:
־ Да жулик он, жулик, нечего говорить.
- Что еще? - спрашивают.
־ А суббота как же? В субботу ведь работать нельзя.
Ему объясняют, что я в субботу воду не ношу, а прошу других. Он смеется:
- Да ладно вам! Сколько это может продолжаться? Ну, поработают за него субботу, другую. А потом что?
Тут вскакивает страшный Азат, бьет по скамье кулаком и кричит:
- Нет, мы не допустим! Я буду за него работать, другие будут ־ мы не допустим!
Тот еврей притих.
Прошло несколько дней. Он подходит ко мне и спрашивает:
- Почему вы со мной не разговариваете?
Я ему сказал правду:
- Я видел, что вы смеетесь над еврейскими законами, поэтому я с вами не разговариваю.
- А может, вы со мной поговорите, и я изменюсь?
В общем, стал я с ним заниматься. Прошло время, и в Иом-Кипур он уже постился. Когда человек хочет, он из любой грязи может выбраться.
ЗАКЛЮЧЕННЫЙ ПО КЛИЧКЕ ШИНБЕ
Меня прозвали Шинбе - “суббота” по-татарски: из-за того, что я в субботу не работаю. В этот день я учил Тору.
В любой камере самым плохим считалось место у двери, потому что там очень холодно. Я же выбирал именно это место. Во-первых, потому, что у двери стоял бачок с кипятком, а в субботу это особенно удобно, во-вторых, потому, что там стояла узенькая тумбочка, которая служила мне субботним столом. Я добывал два листочка чистой бумаги (что непросто в лагере), выкладывал на один две сбереженные пайки хлеба, накрывал вторым листом и встречал шабат. Заключенные-татары называли мой закуток за дверью ”еврейский кабинетка”.
Как за столом в своем доме, проводил я субботу и в этом закутке.
Я приглашал к себе Семена Семеновича Лукацкого, Рубинчика и других. Как-то сидим мы в пятницу вечером, сделали кидуш, разбираем недельную главу. Вдруг Рубинчик говорит:
- Мне сегодня газету показали. Ребята, Сталин поседел! Хоть я и зек, но у меня сердце заболело.
Страшно за Сталина переживал. Как стукнет кулаком по тумбочке:
- Сталин - хороший старик, он не должен седеть!
Надо было быть крепче железа, чтобы не рассмеяться. Но я удержался.
О Рубинчике стоит сказать особо. Он был женат на русской, любил выпить, двадцать пять лет проработал в НКВД в Минске - а в лагере в какой-то мере ”сделал тшуву” (тшува - раскаяние, возвращение к вере). Помню, однажды вечером в пятницу у нашей ”субботней тумбочки” он запел идишскую песню:
керн, Мейшеле, ди эйлике Тэйре, вест ду вися ви а ид цу зайн.
Ду вест зен аз ди ганце велт Из хавель хаволим
Ун аз а менч верт гиборн,
Гробт эм шейн а кевер...”
(”Учи, Мейшеле, святую Тору и будешь знать, как быть евреем. Ты увидишь, что весь мир ־ суета сует, и только родится человек, как ему уже готовят могилу”.)
Рубинчик договорился с Моше Народовичем, который выходил на волю раньше, что, освободившись, поживет у него пару месяцев. Он решил не возвращаться в Минск, к прежней семье, а остаться в Казани, найти себе еврейскую жену и жить по-другому. Свое намерение он осуществил.
Когда я видел курящего в субботу еврея, я подходил:
- Извините, вы еврей, не надо курить в субботу.
И, как правило, люди бросали папиросы.
Подхожу так однажды к Борису Михайловичу Гельферу. Этот бывший заместитель начальника лагеря, оказавшийся в том же лагере уже в качестве заключенного, был человек ”ассимилированный”: женат на русской, весь в татуировке, грубый...
- Борис Михайлович, вы же еврей, а Б-г велел, чтобы еврейский народ соблюдал субботу!
- Ох, как вы мне надоели! - но тут же бросил папиросу.
На воле я навестил его. Посидели, поговорили и разошлись.
Прошло время. Я работал учителем и, как всегда, боялся ”разоблачений”.
Однажды я под каким-то предлогом удрал с очередной консультации в субботу. И именно в этот час, как мне сообщили назавтра, меня искала одна учительница не из нашей школы. Я испугался - проверка?!
Выяснилось, однако, что приходила жена Бориса Михайловича. Она нашла меня уже дома и рассказала, что Борис Михайлович умер. Она похоронила мужа на русском кладбище. И вот уже месяц она не знает покоя, не спит и чувствует, что начинает сходить с ума. Каждую ночь он приходит к ней во сне с жалобой:
- Что ты со мной сделала? Почему не заботишься о моей душе?
Женщина вспомнила, что он рассказывал ей обо мне, и прибежала.
Что делать? Нельзя хоронить еврея на нееврейском кладбище. А перехоронить - практически невозможно. Не разрешат. Я решил читать ”Кадиш”.
В Казани, если полшите, жил реб Ицхак Сандок (Ицхак-милнер), великий человек, сейчас таких немного осталось. Я его попросил читать ”Кадиш” за Бориса Михайловича (считал, что его молитва будет посильнее моей; я думаю, он был один из тридцати шести скрытых праведников, на которых держится мир). Попросил я его перед минхой, прочел он вечером, а на следующий же день прибежала эта женщина, счастливая, ־ впервые за последний месяц спала спокойно. И еще много раз она прибегала ко мне, до конца траура по мужу, чтобы сказать, что все в порядке.
Видно, у ее покойного мужа были какие-то заслуги, если с ним произошла такая история.
ШМИНИ АЦЕРЕТ
Первое время в должности водоноса я не обращал внимания на постоянно мокрые руки и одежду. Мороз зимой доходил до тридцати градусов. Пролившаяся на руки вода сразу замерзала. Кожа на руках потрескалась, язвы не заживали, и руки так болели, что я не надеялся их сохранить. Но я таскал и таскал ведра с величайшим усердием - ведь за это я получал субботу.
Наступил вечер Шмини Ацерет - праздника, который приходится на восьмой день Суккот. Стояла глубокая осень. Не так уж и холодно - морозов еще нет, но у меня внезапно начались резкие боли в руках и ногах. Сегодня, когда я прожил и пережил уже немало, скажу: за всю жизнь (а я, как-никак, перенес инфаркт и операцию на сердце) я таких болей не испытывал. Похоже было, что дело пахнет острым ре'вматизмом. Неужели останусь калекой?
Приступ застиг меня на улице. Едва передвигая ноги, с величайшим трудом я добрался до барака, он обогревался батареей, обхватил батарею руками, положил на нее ногу и так ”пролежал”
до вечера. Только вечером я спохватился - сегодня же Шмини Ацерет! Надо веселиться, надо танцевать! Танцевать у меня, конечно, не получится. Но спеть надо!
Со мной в бараке сидел мой подельник Моше Народович. Он хорошо пел, и я предложил:
- Давай споем какой-нибудь нигун (на идиш - праздничное песнопение).
Он запел, я присоединился. Все смотрели на меня как ,на сумасшедшего: чего поет, чему радуется? Это лежа-то на батарее!
Барух а-Шем, недели через три боли уменьшились. А потом и вовсе прошли! Чудеса. Я-то думал - это останется навсегда.
ХАНУКА
Приближалась Ханука. Первый и главный вопрос - где раздобыть ханукальные свечи?
Я искал, кто бы мог помочь, и нашел еврея-художника из Вильнюса, Добровицкого. Правда, обращаться к нему было рискованно, потому что он вертелся־ возле лагерного оперуполномоченного и о нем поговаривали, что он ”скрипка опера” (”доносчик” на лагерном жаргоне). Но он производил приятное впечатление, и я рассказал ему про Хануку.
Ничего не знавший о еврействе Добровицкий загорелся. Он работал в КВЧ (культурно-воспитательной части), раздобыл там одну большую свечу. Я разделил ее на восемь частей, рассчитав, чтобы каждая горела полчаса, - по одной свече на каждый из восьми дней праздника. Обычно в каждый из дней Хануки в светильник добавляют по одной свече, так что в восьмой день зажигают уже восемь, но по закону одной свечи достаточно.
Теперь - где их зажигать, чтобы не обнаружили? Разводить огонь в лагере запрещается. Надзиратель заходит в камеру каждые пятнадцать минут, а ханукальные свечи должны гореть не менее получаса. Как быть?
В лагере были две умывальные комнаты. Я приносил туда чистую воду, выносил использованную и мыл пол. Раздевались там только до пояса, поэтому здесь можно было зажигать свечи и про-
износить благословение (ванная и туалет, где обнажают нижнюю часть тела, в этом отношении некашерны).
Я собирал всех пятнадцать евреев в одной из умывален, запирал дверь, зажигал свечу и выливал на пол ведро воды. Через четверть часа (он и в умывальни приходил четырежды в час) стучит надзиратель. Я говорю:
- Извини, пол мою. Только что воды налил - тебе не войти. Подожди минут пятнадцать.
В эти пятнадцать минут я выполнял ”пирсума ниса” - возглашение о чуде. Я для того и слушателей собирал. Рассказывать о чуде с маслом для меноры, храмового светильника, - одна из ханукаль-ных заповедей.
Так мы провели восемь дней Хануки - все как положено.
Перед субботой в Хануку я, как всегда, заготовил в бочках воду на шабат. И вдруг вижу - один заключенный, однорукий татарин, переворачивает мои бочки. Одну, вторую, третью... Я не кричал, не спорил, я только сказал: ”Зачем?” Но на него не подействовало. Он вылил всю мою воду. И пошел к начальнику жаловаться, что вода протухла...
МИШЛОАХ МАНОТ
Было это в пятьдесят втором году. С хлебом было туго, и я немножко голодал. А тут - Пурим. Заповедь о ”мишлоах манот” требует посылать в Пурим подарки друзьям и беднякам.
Что посылать? То, что ценно в данном месте в данное время. В лагере луковица - большое богатство. Я обошел бараки и нашел человека, который дал мне в долг луковицу. Потом не без труда сумел занять у другого столовую ложку сахара.
Чтобы полностью выполнить мицву, желательно послать пу-римский подарок торжественно, через посланца. Я взял луковицу, сахар и попросил Исаака Моисеевича, одного ленинградского еврея, сидевшего за что-то связанное с торговлей, быть посыльным. Подошли мы вместе, и тот говорит:
- Айзик Миронович (об Айзике Мироновиче еще будет разговор), тебе Ицхак Зильбер посылает ”шалах монес”.
Тот взял и тут же съел.
В заповеди сказано: ”мишлоах манот иш ле־реэу” ־ что толкуется как два блюда другу и подарки двум беднякам. В качестве подарка бедным я отложил какую-то сумму, с тем, чтобы отдать ее потом, по выходе из лагеря. Я не подумал, что можно отдать в лагере - заключенные ведь тоже бедные. Я привык, что мы все одинаковые - ту же пайку получаем. На самом же деле можно было отдать там.
ГОРЕ ОТ УМА
Я приметил одного заключенного, который выделялся из общей массы зеков интеллигентной внешностью.
Я познакомился с ним и поинтересовался:
- Вы кто по профессии?
- Научный работник. Селекционер.
- Как вы здесь оказались (в лагере такой вопрос допустим; тут это, можно сказать, форма знакомства)?
- Из-за гречихи. Выводил морозоустойчивую гречиху, сумел вывести нужный сорт и подал заявку на открытие. Открытие приписали другому, а мне пришили дело.
Вам, наверно, эта история кажется невероятной? А мне известен не один подобный случай. Был у меня знакомый, еврей, который сделал серьезное открытие в области космических спутников. Открытие ”передали” другому, а ”открывателя” для пущей надежности вознамерились уволить. Мать изобретателя - боевая женщина - встала на защиту сына. Она бегала по всем инстанциям, клялась, что он никогда словом не обмолвится о своем авторстве, - и добилась, чтобы изобретателя оставили на работе. Но волнения не прошли для него даром: он перенес инсульт, стал инвалидом. (Помню, в праздник я пришел навестить его и поднимался на восемнадцатый этаж большого московского дома пешком, чтобы не нарушать йом тов.)
Не можете себе такого представить? Счастливые люди!
Последний год заключения
“ДЕЛО ВРАЧЕЙ“
Зима пятьдесят третьего года, последнего года моего пребывания в лагере, была тяжелым временем - разгар ”дела врачей”.
В январе в центральной печати появилось сообщение ТАСС об аресте группы ”врачей-вредителей”, которые якобы специально ставили неверные диагнозы и неправильно лечили выдающихся политических и военных деятелей (деятели эти перечислялись конкретно), добиваясь их смерти. Большинство этих ”врачей-убийц”, ”агентов иностранных разведок”, были евреи.
Начались увольнения с работы, ”разоблачения” и аресты все новых и новых ”еврейских вредителей”.
Люди, приходившие навещать заключенных, рассказывали страшные истории. Шестнадцатилетняя девушка совершенно искренне делилась с братом известием, что их районный врач-еврейка покончила с собой, сделав тридцати пяти детям уколы, от которых они умерли. Молодой парень говорил, что шестерых евреев-инженеров поймали при попытке взорвать завод, на котором он, почти что очевидец, работает. Ну как было не поверить таким рассказчикам?! Они в это верили, и другие им верили. Да не будь я евреем, может, сам бы поверил.
Помню, еврей-заключенный, тот самый, который спрашивал, можно ли курить в Йом-Кипур, говорил мне про врачей:
־ Не верю, что это выдумка. Нельзя такое выдумать.
Действительно, это не умещалось в голове. Столько фактов, имен, улик, а главное - признаний!
- Зачем, зачем им было это нужно? - недоумевал он.
Я сказал ему, что думаю ־ все это неправда. Он возмутился:
- Во всем тебе поверю, только не в том, что это ־ фальшивка!
По всей территории лагеря развесили плакаты: человек в белом халате, с бородой, с крючковатым носом, режет ребенка; кровь льется рекой. Подпись под рисунком: ”Врачи-убийцы”.
Когда я проходил мимо такого плаката, мне неизменно бросали:
- Эй, Абраша! Что твои доктора делают с нашими детьми?
Если проходил не один, следовала реплика:
- Вот и ”Джойнт” в полном составе.
О ”Джойнте” - Американском обществе помощи нуждающимся евреям - газеты твердили, будто оно занимается диверсиями и вербовкой шпионов в СССР.
Суд над ”врачами-убийцами” был назначен на шестое марта. Приговор был заранее известен: повесить ”убийц” на Красной площади в Москве. Сразу после суда Сталин намеревался выселить всех евреев страны в Сибирь и на Дальний Восток.
В домоуправлениях, по месту жительства, и в отделах кадров, по месту работы (чтобы никого не пропустить), были составлены списки евреев: тех, у кого и отец, и мать евреи (они подлежали депортации в первую очередь), и тех, кто родился в смешанном браке. Потом, в Израиле, мне довелось встретить людей, которые успели получить распоряжение явиться к поезду не больше чем с двумя сумками (одна женщина была из Москвы, другая - из Ленинграда).
Сталин намеревался начать высылку еще в середине февраля, но списки были не готовы. Он нажимал, торопил и крайним сроком для суда назначил шестое марта.
По дороге половина выселенных доля-сна была погибнуть: голод и холод в неотапливаемых вагонах, крушения поездов, расправа на остановках - народ ”бурно выразит” свое возмущение преступлением врачей...
Исследовавший этот вопрос юрист Я. Айзенштат в своей книге ”О подготовке Сталиным геноцида евреев”, изданной в Иерусалиме в 1994 году, пишет, что впоследствии бывший председатель Совета Министров СССР Н.А. Булганин подтвердил в беседе подогнать к столице и другим крупным городам несколько сот военных железнодорожных составов... Булганин утверждал, что Сталиным планировалось организовать в пути крушения и нападения на эшелоны со стороны ”народных мстителей”. В феврале пятьдесят третьего года теплушки без нар были уже сосредоточены на Московской окружной дороге, в районе Ташкента и в других местах”.
Я. Айзенштат пишет также, что в конце пятьдесят второго года известный историк академик Е. Тарле рассказал своему родственнику о готовящейся депортации и о том, что уже назначено, кому именно погибнуть от ”народного гнева”, кому достанутся ценные коллекции московских и питерских, евреев-коллекционеров, кому - ”освобождающиеся” квартиры...
Н.С. Хрущев, первый секретарь ЦК КПСС, приводил свой диалог с ”великим вождем”. Вождь высказывался в приказном тоне:
- Надо дать излиться на них народному гневу.
־ На кого ”на них”? - спросил Хрущев.
- На евреев, - ответил Сталин. - До места должно доехать не больше половины.
Для тех немногих, что уцелеют, в тайге были выстроены бараки по типу концлагерей. Ряды их тянулись на полтора километра. Бараки без отопления, в одну доску, доски едва пригнаны, и это - при тамошних морозах!
МОЙ СТАРЫЙ ЧЕМОДАН
Есть у меня чемодан, который я люблю держать под рукой, сидя за столом в Пурим и на Седер Песах. С этим необыкновенным чемоданом трижды происходили чудеса.
Начнем с того, что чемодан краденый. Что значит - краденый? В лагере, где я находился, имелось мебельное производство. Естественно, заключенные крали фанеру. А из фанеры делали чемоданы. Но, выходя на свободу, это ”государственное имущество” они должны были оставлять за проволокой. Один такой оставленный чемодан достался мне, и я держал в нем свои вещи.
В конце февраля группу заключенных, и меня в том числе, переводили в другой лагерь. День отъезда объявили неожиданно, собраться надо было немедленно. Я оказался перед сложной проблемой: как перенести в новый лагерь мое тайное имущество? Тфилин, мишнает, Пасхальную Агаду, Танах, на котором я написал слова из Теилим: ”Если бы не Тора Твоя, мое утешение, я бы пропал в беде” (119:92)? Потом, после лагеря, я эту книгу отдал одному еврею, который от нечего делать изучал ислам. Не знал человек, что изучать надо.
Страшно даже подумать, что будет, если, не дай Б-г, найдут. Я уж не говорю об обвинениях в контрреволюции. Но ведь сразу начнется: ”Откуда это и как сюда попало?” Вишнев же меня предупреждал: ”Резать будут на куски - не говори”.
Что делать? Оставить - сердце не позволяет. Взять с собой - вдруг найдут? И как не найти! Стоят три надзирателя, смотрят во все глаза, обыск идет самый тщательный, перебирают все...
Я решил сделать так: положил на дно чемодана книги и тфилин, на них - немного сухарей, сверху - машинку для бритья. Здесь уже несколько раз говорилось, что еврейский закон запрещает бритье лезвием, поэтому я не позволял, чтобы меня брили вместе со всеми: заключенным бритвы не полагалось, их брил ”парикмахер”. Я брился сам - только машинкой. На самый верх я положил горшочки из-под риса.
Сейчас объясню, как они ко мне попали. В лагере я ничего, кроме хлеба, не ел, поэтому каждые десять дней жена приносила мне горшочек с рисом. Должен сказать, рис мне так надоел, что с тех пор я на него смотреть не могу.
Однажды, незадолго до того, как нас перевели из этого лагеря, рис принесла не жена, а какая-то незнакомая женщина.
- Что с женой? - спрашиваю.
- С сыном сидит. У него воспаление среднего уха. Положение серьезное.
Проходит несколько недель - никого нет. Потом опять приходит женщина и приносит горшочек с рисом. Что происходит?
Женщина объяснила: ־ Жена прийти не может, заболела, - и опять исчезла.
Можете себе представить мое состояние! Чужие люди приносят еду, о семье нет никаких сведений! Я был так расстроен, что не мог после работы найти свой барак! В барак с закутком (я его восстановил и по-прежнему забегал туда учиться и молиться) я дорогу находил, но жил я теперь в другом - и его не мог отыскать. Удивительная вещь: там и всего-то несколько этих бараков, а я каждый раз по полчаса тыкался то в один, то в другой, а в свой не попадал. Пока кто-нибудь не сжалится надо мной и не скажет: “На, вот тебе твой барак” - и отведет туда...
Некому было отдать эти два горшочка, и я положил их сверху в чемодан. И только потом понял, насколько не случайным было все стечение обстоятельств и горшки в чемодане. Но тогда мне трудно было это понять.
Собрав чемодан, я сказал Всевышнему: ”Рибоно шель олам, я делаю, что я могу. Ты сделай, что Ты можешь”.
Главным проверяющим при обыске был Олимпиев, скверный человек. Он делал чудовищные вещи. Вот вам один только случай.
Можете мне поверить, работал я добросовестно. Изо всех сил старался, чтобы мной были довольны. Я носил воду для всего лагеря, убирал территорию, да еще взялся чистить ото льда трехэтажную металлическую лестницу, находивщуюся снаружи здания. Для этого мне выдали лопату и метлу. Как-то раз отбил я лопатой лед, прислонил ее к стене и на секунду отвернулся взять метлу. В это время мимо проходил Олимпиев. Поднимаю голову - нет лопаты. Я бегу за ним:
- Гражданин начальник, где лопата?
Он говорит:
- Какая лопата? Не знаю никакой лопаты.
И пишет рапорт: заключенный Зильбер взял лопату якобы для работы, а на самом деле отдал ее заключенным, чтобы они сводили счеты друг с другом. Отправить в карцер на трое суток.
Знаете, что такое карцер? Будка не больше телефонной. Сесть невозможно. Холод страшный! Стоишь ”танцуешь” - греешь ноги. Норма питания - триста граммов хлеба, шестьсот граммов воды...
К счастью, засадить меня ему не удалось. Я сперва не знал почему. Вижу только: приказ отдан, а в карцер не забирают. Потом выяснилось - начальник санчасти воспротивился:
- Кто будет носить воду, пока найдут людей?
Действительно, сразу такого дурака не найдешь.
Понятно теперь, что за человек был этот Олимпиев? И как раз он руководил обыском.
Двадцать седьмого февраля, в пятницу (за неделю до суда над врачами), в два часа дня нас выгнали на улицу и держали на морозе до пяти. В этот день мороз был минус тридцать с лишним, да еще метель. Мы буквально замерзали. А наши мучители не спешили. Им-то что! Они заходили в помещение, пили чай, грелись, отдыхали.
Подошла моя очередь на проверку. Олимпиев неподалеку проверяет чьи-то вещи, остальные открывают мой чемодан. В глаза им сразу бросаются два горшка. Они начинают хохотать: - Он же религиозный, в столовой ничего не ест. Только хлеб берет и чай. Вот ему и приносят еду в этих горшках, ха-ха-ха!
- прямо корчатся со смеху.
Услышал Олимпиев, как они смеются, и говорит из своего угла:
- Да-да, я его знаю. У него еще есть заскок - бреется не лезвием, а какой-то чудной машинкой! Разрешение на нее получил!
Сняли они эти два горшка, а под ними сухари. Между сухарями и горшками лежала машинка для бритья и разрешение.
Они хохочут:
- Точно! Вот и машинка!
А Олимпиев опять говорит:
- Разрешение на машинку есть - это я хорошо помню. И чемоданчик этот из дому - могу засвидетельствовать.
До сих пор не понимаю, как он сказал очевидную для всех ложь в мою пользу? При мне за эти три часа он отнял штук тридцать таких чемоданов. Как увидит такой, - а его сразу видно! - выкидывает вещи на снег, и с каким наслаждением! - а чемодан швыряет в сторону. Там уже валялась гора таких чемоданов. А тут он сказал, что это мой чемодан из дому!
Это чудо номер один.
Дальше. Всех проверяли тщательно, а у меня только сняли горшки и машинку. Я был единственный, кого не обыскали! Если бы они чуть тронули сухари, сразу нашли бы книги, и тогда всему конец. Но они не стали искать дальше, хотя были обязаны. Закрыли чемодан, и все!
Это чудо номер два.
”Если бы не Г-сподь, который был с нами, когда встали на нас люди, то живыми поглотили бы они нас, когда разгорелся их гнев на нас” (Теилим, 124:2-3).
Солнце уже заходило, наступала суббота, нести чемодан я не мог и договорился с заключенным Исаевым, что он отнесет мой чемодан в другой лагерь.
ПУРИМ ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО
Мы прибыли на новое место вечером в пятницу, суббота пришлась на тринадцатое адара (двадцать восьмое февраля), а в ночь на четырнадцатое адара, на исходе субботы, наступил Пурим.
Я собрал пятнадцать евреев и стал пересказывать им Мегилат Эстер (Свиток Эстер): историю об Ахашвероше, Амане и о чудесном спасении евреев.
Один заключенный, Айзик Миронович, вышел из себя (у него было тяжело на душе, он был уже немолодой, осужден на десять лет). Чуть не с кулаками на меня набросился:
- К чему нам твои ”майсес” (байки) о том, что было две с половиной тысячи лет назад? Ты мне скажи, где твой Всевышний сегодня?! Ты знаешь, что скоро будет с евреями Союза? Мало того, что немцы уничтожили шесть миллионов, сейчас еще здесь три миллиона хотят уничтожить. Знаешь, что врачей будут судить и повесят на Красной площади? Что эшелоны готовы и бараки построены? Часть под Верхоянском, где минус шестьдесят-семьде-сят, часть - под Хабаровском. И бараки без отопления.
Я говорю:
- Верно, положение у нас тяжелое. Но не спеши оплакивать. Аман тоже успел разослать приказы об уничтожении евреев в сто двадцать семь областей. Б-г еще поможет.
- Как Он поможет? Сталин уже все распланировал. Это тебе не Аман какой-то!
־ Ну и что же?
Он мне начинает доказывать про ”самого Сталина”: три миллиона человек погубил, а коллективизацию провел, всех мужиков России в рабов превратил. В тридцать седьмом своих восемь с половиной миллионов, а то и больше, как говорят, уничтожил, а войну у Гитлера выиграл и после войны крымских татар выселил. И вообще, все, что ни задумает, по его получается.
Я говорю:
- Да, со всеми получается, а с евреями - не получится!
- Почему это?
- Потому что сказано: ”Не дремлет и не спит Страж Израиля” (Теилим, 121:4). А Сталин не более чем человек, ”басар вадам” (буквально - "плоть и кровь", то есть простой смертный).
־ Но он крепок, как железо, несмотря на свои семьдесят три.
Я: - Никто не может знать, что будет с “ басар ва־дам” через полчаса.
Айзик Миронович рассердился и убежал.
Это было вечером в Пурим, а наутро он меня ищет:
- Ицхак, знаешь, вчера ты хорошо сказал.
- Что я хорошо сказал?
Я уже и забыл к тому времени.
- Ну как же? Ты сказал без десяти восемь, что Сталин не более, как плоть и кровь, и мы не знаем, что будет с “басар ва-дам” через полчаса. А сегодня один вольный инженер шепнул, что слышал по немецкому радио: в ночь с двадцать восьмого на первое в восемь часов двадцать три минуты у Сталина произошло кровоизлияние в мозг и он потерял речь. Без десяти восемь и восемь двадцать три - это полчаса.
Мы посмеялись этому совпадению...
Пятого марта официально объявили о смерти Сталина. На его похороны приехали руководители стран соцлагеря, и среди них - президент Чехословакии Клемент Готвальд. Незадолго до этого из Чехословакии выпустили в Израиль сто тысяч евреев, и Сталин очень разгневался. По его приказу Клемент Готвальд расправился с “виновными”: расстрелял Генерального секретаря ЦК Компартии Чехословакии, министра внутренних дел, министра иностранных дел - всего шестнадцать человек! И как расстрелял! Для устрашения всех прочих держал их в камере смертников две недели.
Этот палач приехал в Москву четвертого марта, на похоронах простудился, заболел воспалением легких - по официальной версии - и скоропостижно отправился вслед за “вождем народов”. Как говорят на идиш, ”цвей капорес ин эйн тог”, что примерно значит: откупиться вдвойне одним разом.
Как только я узнал о болезни Сталина, я начал читать теилим, чтобы ему поскорее пришел конец. Если сегодня я знаю псалмы
наизусть и могу прочесть любой псалом с любого места, то это из-за Сталина”. Я читал их трое суток подряд, день и ночь: бегая с водой, убирая территорию, сидя в бараке. Перестал, когда услышал, что его уже нет. Откуда они вдруг так вспомнились, что я их на ходу наизусть читал? Это Всевышний открыл мне память...
Можно ли читать псалмы с таким внутренним настроем, с таким желанием? Да, можно. И нужно. Необходимо было читать теилим, чтобы такого раша (злодея) не стало.
ПОДГОТОВКА К ПЕСАХ
Прошел Пурим. До Песах оставалось немного времени, готовиться надо было заблаговременно.
Как-то меня спросили:
- Вы, наверно, готовились к Песах с особым чувством? Ждали перемен? Ведь Сталин умер!
Перемен ждал? Я всегда ждал избавления. Машиаха я ждал. Каждый день. А про Сталина после его смерти не говорил и не думал.
Я говорил евреям в лагере:
- Не могу обещать, что это сократит нам срок, но мы должны стараться не есть хлеб в Песах.
Они в принципе были согласны, но не представляли себе, как это можно сделать:
- Нам и пайки не хватает, а если и ее не есть, что будет?
Я сказал, что попрошу жену, она достанет муку, выпечет мацу, а мы попробуем добыть картошки.
Гите удалось достать восемь пакетов муки, двадцать четыре килограмма. Это, как я уже говорил, было непросто. Но главная опасность заключалась в том, что тогда пересажали многих за изготовление мацы. Давали по восемь-десять лет. Гите потому и пришлось добывать так много, что она хотела обеспечить мацой не только свою семью, меня и других заключенных в лагере, но и еще несколько еврейских семей: перед праздником к ней пришли несколько человек и сказали, что год тяжелый, они боятся идти за мацой, так что если она не решится купить и для них, придется их семьям провести праздник без мацы.
От большой неприятности Гиту спасло чудо. Когда она на санках везла домой мацу, выпеченную в тайном месте, ее задержал милиционер -татарин:
- Что везешь?
Гиту сопровождал уже знакомый вам реб Ицхак-милнер. Завидев милиционера, Гита дала реб Ицхаку знак уйти: женщине легче отговориться. Он ушел, и Гита осталась одна.
Гита стала обстоятельно рассказывать, что у нее двое детей, у одного из них день рождения, и она везет печенье.
- А почему так много? Идем в милицию!
Она упирается, тянет время...
Он посвистел, вызвал еще одного милиционера. Посовещались они (говорили по-татарски, Гита не поняла), и вдруг тот, что пришел, махнул рукой:
- Можешь идти!
Это было так невероятно, что жена потом говорила:
- Это, наверно, был Элияу-а-нави (пророк) в виде татарского милиционера.
О пророке Элияу Талмуд говорит, что несколько раз после своей смерти он появлялся на земле и выручал людей из беды в ситуациях, когда выпутаться не было никакой возможности.
Дома Гита разломала мацу на куски, положила в мешочки, надписала - ”печенье к чаю”, и их удалось передать в лагерь. (”Шулхан арух” - свод еврейских законов, о котором я уже упоминал в самом начале книги, - разрешает при отсутствии трех целых листов мацы произносить положенное благословение ”аль ахилат маца” на кусочки, даже на пыль от мацы и на мацовую муку.)
Итак, маца есть. Есть даже ”марор” (горькая зелень) - жена принесла, помнится, хрен. Но как быть с вином? Его вообще нельзя приносить в лагерь. Хорошо, что я знал: если сварить изюм и отцедить отвар, то ”Шулхан арух” разрешает произносить на него благословение как на вино, ”боре при а-гафен” (”Сотворивший плод виноградной лозы”). Жена передала мне такой ”компот” под видом банки с вареньем, я отцедил жидкость накануне Песах, и этого хватило на ”арба косот” - требуемые законом четыре бокала вина в Седер Песах для всех участников Седера.
А где и в чем варить картошку на Песах? Я-то никогда не ел в столовой, довольствовался хлебом и чаем, так что мне не привыкать, но как быть с другими? Достал я у одного зека большой чугун и стал его отчищать льдом и песком, чтобы потом кашеро-вать. Мучаюсь с ним... Подходит Мишка Косов, ”пахан” (главарь) у блатных, здоровый такой, красивый мужик лет тридцати пяти. И говорит на чистом идиш:
- Я еврей. Слыхал, вы собираетесь не есть хамец? И я с вами.
Протягивает сотенную бумажку:
- Пусть ваша жена достанет мне кашерную курицу,
Евреи рядом чуть в обморок не упали, да и я порядком оторопел. Мишка Косов - еврей? А Мишка объясняет:
- Что меня воры русским считают - так мне даже удобнее.
Еще вопрос: где хранить мацу? Каждая тумбочка - на четырех человек, и вокруг полно воров.
Меня спрашивали:
- Что же, в тумбочке будет лежать хлеб, а мы будем тут же держать мацу?
Я ответил:
- В Торе сказано: ”ло ераэ леха хамец” - ”чтобы в твоем владении не видно было хлеба”. А тумбочка - не твое владение, и что в ней - тебя не касается.
Но все равно неприятно.
Кроме того, как известно, стоило в лагере кому-то получить передачу, как к нему тут же подходили ”представители” от воров и им ”полагалось” отдать треть, иначе ночью изобьют и отнимут все.
Косов ”проявил инициативу”. Он состоял в лагерном драмкружке, имел доступ в КВЧ и углядел там новенькую тумбочку. Взломал дверь, украл тумбочку и принес ее в канун Песах:
- Вот тумбочка с замком. Чистая. Будет специально для Песах.
Потом подошел к ״уркам”:
- Сегодня и еще восемь дней, если кто подойдет к Зильберу, попросит ״поделиться״ - останется без головы.
Они знали, что он слов на ветер не бросает, и не подходили.
Мишка и сам мучился, не ел хамец. Он рассказал мне, что уже успел посидеть в Сибири и там тоже был один еврей, который не хотел работать в субботу. По его словам, когда этот еврей умер, Мишка не захотел, чтобы его похоронили рядом с неевреями. Он пошел к начальнику, сказал, что это его родственник, добился разрешения похоронить его отдельно и похоронил. Тоже мицва!
Но где, собственно, проводить Седер в лагере, не подскажете? Я рискнул, подошел к еврею из санчасти:
- Ты обычно раздаешь лекарства с восьми до девяти вечера. Но можно ведь раздавать с шести до семи. Сделай так всего два дня (два - потому что в диаспоре, в странах рассеяния значит, праздничными являются два первых дня, а не один).
Этот заключенный из Белостока был из тех, что бросают своих еврейских жен и женятся на нееврейках. Но вот любопытно - войдя в санчасть, я услышал, как он, делая что-то, напевает: ״Их хоб цу дир кин тайнее нит. Гот ун зайн мишпет из герехт” (״У меня нет никаких обид на Тебя. Б-г И Его суд справедливы”. - Идиш.). Помнил, значит, все-таки, что он еврей...
Он меня послушал, на два вечера освободил санчасть, сидел с нами и ел мацу.
ЛАГЕРНЫЙ СЕДЕР ПЕСАХ
Накануне Песах есть хлеб прекращают уже с утра, и к вечеру мы были страшно голодны. Но вот в восемь я отправился в каптерку за мацой: хранить мацу в бараке я не решался, боясь кражи. Ведь мишкино предупреждение касалось только ”дележа” посылок, уберечься же от воровства было невозможно.
Работавший в каптерке заключенный - биолог по профессии, бывший сотрудник и друг знаменитого Мичурина - относился ко мне с полным доверием. Ни разу за два года не попросил расписаться в ведомости сдачи-получения: я просто сдавал и забирал свои вещи. А тут случилось непредвиденное. Он вдруг потребовал:
- Распишись!
Я удивился:
- Что случилось?
А он: - Не подпишешь ־ не получишь.
А ночь Песах уже началась и писать нельзя!
Промучился я с ним больше часа: распишись, и все! До сих пор не понимаю причины. Испытание свыше.
С большим трудом я уговорил его отдать мацу без подписи.
И вот вечером в Песах мы вошли в санчасть. Мы сидели за столом, как цари. Пили вино, ели мацу и читали Агаду, которую принес парторг Вишнев.
Нас было столько человек, сколько могло вместиться, кажется, двенадцать. Я пригласил самых близких.
А как быть с остальными?
Я дал мацы, посоветовал собраться в одной камере, научил говорить кидуш.
Перед праздником ко мне пришли несколько человек - я и не знал, что они евреи, - и попросили: ”Дайте нам ке-заит мацы”. Один из них сказал, что сидит давно, с войны; он был капо в гетто, может, в концлагере. Он признался, что уже двадцать лет не ел мацы. Дали им по кусочку мацы. Так что у всех был кашерный Седер!
Я объяснил им, что в ночь Седера надо вспомнить хотя бы три основные вещи, о которых в Агаде сказано: ”...кто не растолковал три вещи - Песах, маца, марор, ־ не выполнил обязанности”. То есть на Седере надо рассказать, почему мы приносили пасхальную жертву, почему едим мацу и почему едим горькую зелень.
”Песах” на иврите значит ”перескочил”. Казня первенцев в Египте, Б-г миновал (”перескочил”) дома евреев и поразил только дома египтян.
”Маца” - пресный хлеб. Если сначала фараон отвергал требования Моше и не давал евреям разрешения на ”выезд”, то во время десятой казни, в ужасе перед происходящим, он торопил их уйти. Только евреи замесили тесто, чтобы испечь хлеб в дорогу, как им пришлось уходить. Тесто и подняться не успело. Маца напоминает нам, как фараон резко изменил позицию и в страхе подчинился воле Всевышнего.
”Марор” напоминает о горечи жизни в египетском рабстве.
Заповедь требует, чтобы об этих трех вещах говорили, сидя удобно, облокотясь, как подобает свободным людям.
Так все и сделали.
Эту ночь мне не забыть. Мишка Косов сидел с нами в санчасти, пил четыре бокала (Мишка был в восторге от нашего вина), ел мацу, и все смеялись: Мишка Косов стал евреем!
ПАСХАЛЬНАЯ "КУХНЯ"
Еще до начала Песах надо было решить, где и как готовить пищу. Песах - праздник весенний, и к этому времени в лагере уже перестали топить. Топили только в нашем бараке. Но изверг-истопник даже мимо пройти не давал.
Заметив, что он продает сухари, я, “с дальним прицелом”, купил у него пару раз сухари, хотя они мне были не нужны. На третий раз не доплатил и пришел отдать деньги, когда он топил. Дал ему попробовать немножко мацы и после уже свободно заходил к нему и варил. Невероятно, но только в этом блоке топили до конца Песах.
Так как я не раз ходил перед субботой по людям договариваться насчет воды, у меня появилось немало знакомых среди уголовных. (Я даже научился их языку и песням. Я пою их в Пурим и в ночь Седера.) Я условился, что они попросят с воли сырую картошку (свой посылочный “лимит” я уже израсходовал). И вот каждый день в пять утра я чистил и варил картошку: в шесть всех выгоняли на работу, и надо было успеть к этому часу сварить. Без соли, без ничего - одна картошка. Заключенные, если я успевал сварить, - ели, не успевал, - уходили без еды. Честно держались!
Приходили в обед: если у меня была картошка, то большинство оставались и ели, а если не было, то некоторые уходили в столовую. Я их очень просил, чтобы они не ели в столовой ячменную кашу, а только картошку. И так мы дотянули до конца Песах.
Первый день Песах. Стою, варю картошку и смотрю, чтобы никто до нее не дотронулся. Тут же два удмурта, те самые головорезы, варят лапшу. Ну будто нарочно! Однако по закону, если каш ер и трефа варятся рядом, это еще ничего. Только вдруг удмурт, перемешивая ложкой свою лапшу, сунул эту ложку в мою кастрюлю с картошкой! Представляете?
Что делать с картошкой? И что делать с горшком? Кашеровать в Песах нельзя. Я ломал себе голову, и меня опять выручило знание ”Шулхан арух”: есть закон, по которому, при полном отсутствии других возможностей поддержать существование, можно съесть такую картошку и можно готовить в такой посуде. Сам я уже картошку до конца Песах не ел, но всем варил и ничего не сказал. Зачем говорить? Им это не поможет. Пока они не знают, ответственность за все лежит на мне. (Потом, когда я вышел, я спросил у двух больших раввинов, и они сказали, что я правильно сделал. Но тогда...)
Я тоже не голодал: немного воды, немного мацы... Глядя назад, с трудом верю, что все это было со мной и я цел и невредим.
Каждый день я искал картошку, это было мученье. К одному подойду, к другому, к пятому. И доставал. Так я и воду ношу, и картошку ищу. Иногда до полуночи.
Как-то я с большим трудом нашел картошку, сварил. Несу горшок. Весна, таять начинает. Я поскользнулся, упал, и все вывалилось в затоптанный снег.
Собрал я картошку, очистил от снега и положил в горшок.
Говорить, что упало в снег, или нет? Люди голодные, работают до двенадцати, до часу, и единственная их еда - эта картошка и кусочек мацы. Побрезгуют - не будут есть. Я не сказал.
И вот наступает последний, восьмой день Песах. Все. Ни крошки мацы нет, ничего нет.
Айзик говорит:
- Но в Израиле сегодня уже едят хлеб!
Я говорю:
־ Да, но мы здесь, в галуте, обязаны соблюдать еще один день.
Он говорит:
- Нет у меня сил... Не могу больше, хочу сейчас поесть хлеба!
И тут я увидел нешуточную силу простого еврейского обычая.
Не закона даже, но обычая. В последний день Песах принято молиться за душу умерших родителей. Он сам вспомнил:
־ Постой, - говорит, - сегодня ведь ”Изкор”, поминальную молитву, читают! Есть сейчас хлеб, а потом этим же ртом сразу поминать отца? Неловко... Ладно, я сначала прочту ״Изкор”.
Мы с ним читаем ”Изкор”.
Подходят другие, и среди них один очень неприятный тип. Его отец и мать просили его, чтобы он после их смерти не читал по ним ни ”Кадиш”, ни ”Изкор”. Так и сказали: не пачкай наше имя своим грязным ртом. Почему? Он закрыл синагогу в своем городе, посадил в тюрьму шохета и моэля и все время твердит, что верующие - мошенники. Вроде того бухгалтера, о котором я рассказывал. Он и теперь всех пугал:
- Выйду из лагеря - того посажу, этого посажу...
И он тоже пришел прочесть ”Изкор”!
Он спросил у меня: можно ли? Есть правило - с ответом не спешить. Я подумал и сказал: можно.
Потом он меня спрашивает:
- Можно ли сегодня есть селедку и сливочное масло?
Я смеюсь:
- Где, здесь или в Израиле? Здесь - это самое кашерное, что только может быть. (В Израиле я, может быть, еще стал бы разбираться, что за селедка, где масло лежало. А тут - безо всяких.) Почему ты спрашиваешь?
Он говорит: ׳
- Я получил посылку из дому - селедку и сливочное масло, и, если можно, отдаю вам.
Тут еще подошел Исаак Моисеевич с новостью: сняли антисемитские плакаты.
Если сняли плакаты, значит - врачей выпустили. Долго мы ничего не знали, но оказалось, их выпустили на второй день Песах.
В Талмуде сказано, что освобождение обычно приходит к евреям в нисане (нисан - месяц исхода из Египта). Это время поражения врагов еврейского народа. Предшествующий месяц, адар, тоже благоприятен для евреев. Сталинградская битва закончилась в р ош-ходеш адар. Гитлер объявил этот день днем траура.
В тот день мы ели картошку с селедкой и со сливочным маслом. Картошку раздобыли, и я тоже ел из этого горшка - в последний день Песах допустимы некоторые облегчения. Это было безумно вкусно.
А потом мы гуляли по лагерю, где больше не было мерзких плакатов. Я рассказывал моим спутникам истории из Талмуда.
К нам подошел Володька Эпштейн, некогда - убежденный атеист и интернационалист. Я уже рассказывал о его брате Максиме и о том, как он со временем изменился. Другим стал в лагере и Володька. Перед Песах, когда нужны были люди, чтобы на их имя прислать мацу (под видом печенья, конечно), Володька согласился стать ”получателем”. Выйдя из лагеря, всю жизнь переменил, расстался с прежней женой, женился на еврейке. Это трудный шаг.
Володька объявил: сегодня вечером ему обещали принести банку варенья. Он отдает банку тем, кто в Песах ни разу не прикоснулся к хлебу. А кто хоть раз попробовал - пусть не приходит!
Банка варенья! В лагере на луковицу неизвестно что выменяешь, а тут - варенье! Вечером, на исходе Песах, все пошли к нему пить чай с вареньем. Я не пошел. Хотелось побыть одному.
Так закончился Песах. А сразу после Песах объявили амнистию...
КАК Я ЗАРАБОТАЛ ДЕНЬГИ В ЛАГЕРЕ
В лагере нас старательно воспитывали. Разъясняли, что капиталисты лгут, будто в Советском Союзе существует подневольный труд. Это клевета. И даже гнусная клевета. Да, есть люди с тяжелым характером, не способные сосуществовать и сотрудничать с другими, и ученые разработали методы, как их исправить с помощью труда: они работают все вместе и. таким образом исправляются. У меня так и было написано на одежде: ИТК-4 - четвертая исправительно-трудовая колония. Когда я немного ”исправился”, меня перевели в исправительно-трудовой лагерь - ИТЛ-1.
И вообще - о каком ”рабском” труде можно говорить, когда на всех заключенных выписывается зарплата!
Нам это твердили не день и не два и вбивали в голову весьма успешно...
Из зарплаты высчитывали за жилье, отопление, пищу, одежду, охрану, за культурное обслуживание (нам показывали кинофильм ”Ленин в Октябре”), и ничего не оставалось. Да еще надо было подписываться на заем, то есть покупать облигации, в конце года. Помню, однажды, как назло, это массовое мероприятие пришлось на субботу. Уже с утра меня теребили: подпишись на заем. Я отговаривался:
- Некогда. Воды нет, бегу за водой, - и убегал, будто бы к реке.
С каждым разом находить предлоги было все труднее, а не появляться на улице я не мог - считался на работе. Оставалось уже совсем немного, дотянуть до половины шестого.
Там был один капитан, заместитель начальника лагеря. Он заметил, как меня теребили, а я выкручивался, и, очевидно, понял причину. Часов около четырех он не выдержал, останавливает меня:
- Ну, Зильбер, подписался на заем?
Я говорю:
- Нет.
Он как хлопнет меня по плечу:
- Молодец!
Как-то я пошел в бухгалтерию и попросил показать мне ведомость. И правда - зарплату на меня выписывают. Однако в итоге после вычетов остается ноль. Я говорю:
- Слушайте, на меня ведь выписывают продукты: картошку, лапшу... Вот здесь указано. Я их не получаю (я уже говорил, что, кроме хлеба и кипятка, ничего в лагере не ел). Да это уж ладно. Но в последнюю неделю я и хлеб не беру (разговор происходил сразу после Песах; это был мой второй Песах в лагере, Уварова уже не было, и я хлеб никому не отдавал). А я же не раб какой-нибудь, у нас рабов нет! Так отдайте лапшу и картошку сухим пайком или деньгами, хотя бы за эту неделю.
Это было что-то новенькое! Такого еще никто не предлагал... Девушки в бухгалтерии, конечно, сказали, что это не в их компетенции. Надо обращаться выше. У тех, кто выше, свои отработанные методы: иди к тому, иди к этому, иди к третьему. Мне терять нечего - я пошел. Сколько я по ”инстанциям” ходил, как вы думаете? Тридцать пять раз! К замначальника, к начальнику, к начальнику над начальником и т.д. Надо было еще поймать момент, когда они появлялись в лагере. Три-четыре месяца ходил. Я не отстал и перед выходом из лагеря получил триста рублей и принес домой.
Это было все равно, как из этой каменной плитки, на которой я стою, добыть мед. Из плитки даже вероятнее.
Учтите, в пятьдесят третьем хлеб стоил семьдесят пять копеек. Так что деньги были немалые. Пригодились.
Только по возвращении из лагеря, в нормальной обстановке, я понял, до чего изголодался. Я накинулся на сахар, как пьяница на спиртное. За продуктами у нас ходила и в очередях стояла Маша. Не успевала она в дверь войти с покупками, как я выхватывал у нее из рук пакет, высыпал в банку килограмм сахара, наливал воду и залпом выпивал. Каждый день. Это состояние продолжалось недели две.
ТРЕБОВАНИЯ ЗАКОНА
Почему в лагере я отказывался работать в субботу и праздники?
Я поступал так не по своей прихоти. Этого требует еврейский закон.
Я уже говорил, что есть заповеди, которые нельзя нарушать даже под угрозой смерти, и есть такие, которые при определенных условиях можно нарушить, чтобы сохранить жизнь. Если бы я видел, что мои действия создают ”пикуах нефеш” (угрозу жизни), я бы этого не делал.
Я поступал так, работая в школе, потому что даже если бы меня выгнали с работы, лишили диплома (что потом и случилось), это все-таки не смертельно. И в лагере меня за отказ работать в субботу не расстреляли бы. Могли бы продлить срок. Ну так что? Это не причина нарушать праздник.
То же самое - с едой. Вынужденная “диета” мне не вредила. Если бы я почувствовал, что слабею, я стал бы есть некашерную пищу. Но тоже ־ по правилам.
Приведу вам пример из Торы. Он относится не только к проблеме ”кашер” и ”трефа”, а ко всем жизненным ситуациям, когда разрешено отступить от требований заповеди.
Яаков приходит к своему ослепшему отцу Ицхаку за благословением, которое Ицхак собирался дать старшему сыну, Эсаву. Яаков притворяется Эсавом (Брешит, 27:18-25).
- Кто ты? - спрашивает Ицхак.
- Анохи, Эсав бхореха (Я... Эсав - твой первенец).
С чем это можно сравнить? Представьте себе, что на ваше имя, скажем, Рабинович, в районное отделение связи пришел перевод. Я узнаю об этом и являюсь на почту. Я человек пожилой, вид у меня вполне достойный и вызывает доверие.
- Вы кто? - спрашивают меня.
Я отвечаю:
- Я. Рабинович - жилец квартиры номер такой-то по такому-то адресу.
- Паспорт?
- Нет. Забыл дома.
- Ну ладно, получите.
Я же все равно обманул? Какая разница, сказал я: ”Я - Рабинович” или: ”Я. Рабинович живет там-то”? Что это меняет?
Во второй раз (там же, 27:24) Ицхак спрашивает:
- Ата бни Эсав? (Ты мой сын Эсав?)
Яаков опять отвечает: - Я.
Вообще не упоминает имени Эсава.
Ну и что? Его поступок стал от этого честнее? Он же не отказался от своего намерения! Хотел получить благословение вместо
брата - и получил. Что он изменил своими словесными манипуляциями?
Весь вопрос в том, как смотреть на заповеди, данные Всевышним.
Солдат, принесший воинскую присягу, обязан выполнять все приказы командира, что бы он о них ни думал. Это очевидно для всех.
Заповеди Б-га выше приказов человека. Их тем более надо безоговорочно выполнять. Но они не только выше, а еще и сложнее. За ними стоит много не открытых нам обоснований или, как говорят, причин. В каждой мицве более ста - ста пятидесяти причин, которые возвышают, облагораживают человека, придают ему святость. Поэтому к ним надо относиться не только как к приказам командира, но и как к предписаниям врача, которым человек следует для своей же пользы.
Вот вам быль. Новый репатриант, заядлый курильщик, страдал астмой, да и легкие у него были не в порядке. Врачи запретили ему курить, и дома жена и дети бдительно за ним следили. В отсутствие сторожа он забрался на нефтяной склад, расположенный по соседству, и в тишине и уюте всласть накурился. Там, правда, висело объявление, что за курение на складе полагается штраф в триста лир (мы тогда, помню, получали шестьсот пятьдесят лир в месяц), но он еще не умел читать на иврите.
Вернулся сторож и застиг курильщика ”на месте преступления”. Тот ловко отвертелся от штрафа: извините, мол, не знал, читать не умею.
Можно считать, что все кончилось благополучно: от штрафа увернулся, пожара избежал... Но вот со здоровьем как же? Кашлять-то он будет?
Нечто похожее происходит и с мицвот. Каждая из них возвышает и освящает человека, а ее нарушение наносит непоправимый вред. Мы не зря на каждую мицву произносим благословение: ”...ашер кидшану бе-мицвотав” - ”Который освятил нас Своими заповедями...” И если я вынужден отступить от заповеди, я не должен считать, что руки у меня полностью развязаны, и врать напропалую: ”Я - Эсав” и все такое...
Мой сын дважды после тринадцати лет, то есть по достижении
совершеннолетия, был вынужден из-за болезни есть в Йом-Кипур. Но это не значит, что ему позволялось есть как придется. Было рассчитано общее количество пищи на день, которое позволяло избежать опасного для здоровья голодания, была известна предписанная законом на такой случай норма приема пищи для одного раза (если человек может это вынести, если нет - может есть как обычно). Так он и ел - маленькими кусочками, но чаще обычного.
Яаков шел к Ицхаку в слезах - ему очень не хотелось обманывать отца. Мать убедила сына, что еще до его рождения ей было сказано: ”...и старший будет служить младшему...” (Брешит, 25:23) и что он обязан пойти и получить благословение не ради себя, а во имя будущего всего народа. Но Яаков не лгал вовсю даже для такой цели. Он сказал: ”Я... Эсав - твой первенец”. И это - не пустая игра.
Если бы в лагере здоровье мое пошатнулось (физическая нагрузка у меня была не малая для человека, сидящего в основном на хлебе и воде), если бы возникла - не опасность даже - а сомнительное состояние, мне можно было бы есть трефную пищу, чтобы организм получил то, что ему необходимо. Но есть не как обычно, а по правилам: порциями меньше ке-заита, с небольшими перерывами. К счастью, этого не потребовалось.
ПОСЛЕДНИЙ ОБЫСК
Приближался конец моего срока. Но я вышел на пару месяцев раньше - по амнистии, объявленной после смерти Сталина. С этой амнистией из лагерей страны вышло большинство сидевших там евреев.
Перед выходом на волю тоже обыскивают. Снова возникла проблема с тфилин и книгами. Я решил рискнуть и еще раз воспользовался чемоданом. Как и в прошлый раз, положил тфилин, мишнает и Танах снизу, а сверху - сухари и машинку. Повторил свою молитву: ”Рибоно шель олам, я делаю, что я могу, а Ты сделай, что Ты можешь”.
И вот меня вызывают на выход. Прихожу с чемоданом. Чем это кончится? Вдруг один из обыскивающих с грозным видом берет меня за рукав:
- Ну-ка пойдем поговорим!
И уводит в другую комнату, в третью... Мне стало не по себе: наверно, что-то подозревает! Тут он оборачивается ко мне:
- Не подведешь?
- Нет! - говорю.
- Если спросят, что скажешь?
־ Скажу, что обыскал.
Он открывает дверь: - Выходи!
Так я вышел на свободу.
Как это получилось, понятия не имею! И кажется мне, что с моим чемоданчиком трижды происходило что-то необычное.
Бегство из Казани
СНОВА ДОМА
Рядом с входной дверью у нас было занавешенное окошко. Когда дети оставались дома одни, то, выполняя мамин наказ, смотрели из-за занавески: если свои - открывали, если незнакомые - не открывали.
Мне пришлось основательно потоптаться перед дверью. Брат с сестрой разошлись во мнениях: шестилетняя Сара говорила, что это папа, а четырехлетний Бенцион считал, что это чужой дядя. ”Нельзя открывать чужим людям”, - твердил он. В конце концов Сара мне открыла.
СЫН
Я расстался с Бенционом, когда ему не было двух лет, и очень переживал в лагере, что ему уже четыре, а он еще не начал учиться: по еврейскому обычаю мальчики начинают учиться, когда им исполняется три года.
Отец в лагере пытался выстругивать из дерева буквы еврейского алфавита, чтобы меня учить, - все-таки какое-то началоI Товарищи по заключению увещевали его: ”Еще успеешь его научить. Что ты торопишься тут, за решеткой?”
Из рассказа рава Бенциона
Теперь, дома, мне хотелось поскорее восполнить пропавший год. Я стал учить с Бенционом алфавит, Хумаш, а в семь лет - Гемару.
Когда сыну исполнилось восемь, я стал искать школу, где бы ”не замечали” его пропусков в субботу. Нашел. И мы всей семьей молились, чтобы его туда приняли. С учительницей все было договорено (благодаря дочери Клейнермана, как я уже рассказывал). Но директор? Но гороно? Детям полагалось учиться в школах по месту жительства, а мы мало того, что просились не в свой район, так еще хотели попасть сразу в третий класс, где преподавала ”наша” учительница, Мария Яковлевна Розой. Читать и считать по-русски Бенцион умел, а вот писать - нет. Но Марию Яковлевну это не пугало.
Я пошел в школу в восемь лет, а не в семь, как полагалось, потому что со всеми детьми у нас в семье старались тянуть хотя бы год. Отец нашел мне двух учительниц: одну - во втором классе, но в школе на другом конце города, и одну - в школе поближе, но в третьем классе, и спросил: ”Что ты выбираешь?” Я ответил: |Поближе”.
Помню, как мы читали ”Теилим” перед тем, как идти к директору.
Из рассказа рава Бенциона
Мы обратились к директору школы с просьбой принять ”развитого любознательного мальчика” сразу в третий класс. Директор проверил Бенциона. Как сейчас помню, Бенциона попросили умножить одиннадцать на одиннадцать, и он с этим справился. А согласие учительницы принять мальчика к себе в класс довершило дело. Мы пошли в гороно, и там решение утвердили.
ДЕТИ В ШКОЛЕ
В субботу дети, естественно, в школу не ходили. К сожалению, для Сары подходящую школу поблизости найти не удалось - посещать один класс с Бенцион ом она, естественно, не могла: очень уж бросалось бы в глаза совместное отсутствие в субботу брата и сестры. Девочке приходилось нелегко - она ездила на занятия через весь город, с пересадкой.
Все, что связано с субботой, мы тщательно продумывали. В зимнеие пятницы, когда уроки кончались уже после захода солнца, Бенцион, чтобы не возвращаться домой с портфелем, в предпоследнюю перемену относил портфель к женщине, жившей по соседству со школой. Рано утром в понедельник он портфель забирал, чтобы до уроков приготовить домашнее задание. Как поступала Сара, не помню: она была уже большая девочка и знала, что делать.
В начальной школе Сара училась в первую смену, и у нее проблем с субботой не было.
Из рассказа рава Бенциона
Я учил детей не выделяться в классе, быть как все, не говорить ”этого я не ем”, “того я не делаю”. Учил поддерживать со всеми хорошие отношения: не ссориться, не драться, не спорить. Учил так из моральных соображений прежде всего, но и из тактических - тоже. И обе причины детям объяснял.
Как-то, придя в школу, я увидел имя Сары на школьной Доске почета. Я побежал к учительнице: - Лучше Саре не высовываться...
Учительница (кстати, побывав несколько лет назад в Казани, я с ней встретился) снизила Саре оценку, и Сара перестала быть отличницей.
В пятом классе, к которому дети подошли одновременно (оттого что Бенцион пошел сразу в третий), возникла новая проблема: там уже преподавал не один учитель, а несколько. Со всеми сразу о субботе не договоришься! Мы разрешили проблему, устроив детей к знакомому директору в школу рабочей молодежи, где в субботу занятий не было. Дети стали ездить в школу вместе. Бенциону было десять лет, Саре - двенадцать.
Идиллия продолжалась недолго. Недели через две в школу явилась комиссия. Инспектора возмутились:
- Что у вас тут - школа рабочей молодежи или детский сад?
Детей исключили.
Я устроил Сару в другую школу, а с Бенционом отправился к профессору Буеву, который лечил его от воспаления среднего уха. Профессор, кстати, знал, что Бенцион - мальчик любознательный, уж никак не лентяй.
Говорю: - У мальчика болит голова. Что делать? Может, отдохнуть годик?
Профессор тут же написал справку, что по состоянию здоровья ребенку надо год отдохнуть. А мне сказал: - Отправьте его в школу. Если головной боли не будет - пусть учится. Если будет - пусть годик отдохнет.
И даже денег за визит не взял.
ДЕТИ И ОКРУЖАЮЩИЙ МИР
Мы старались, чтобы нас как можно меньше замечали. Все, что было связано с еврейской жизнью, делали тихо. Дети воспринимали все очень здраво. Помню, Бенцион как-то в пятницу вечером, возвращаясь домой с молитвы, заметил, что в окне издалека видны субботние свечи. Он сказал, и мы поправили дело.
Правда, случались и промахи. Однажды Бенцион явился со двора растерянный. Ребята заспорили, кто в мире жил дольше всех, и Венчик в увлечении проговорился:
- Метушелах (Мафусаил), конечно. Он жил девятьсот шестьдесят девять лет.
Правда, он тут же спохватился, ведь это - сведение из Торы, запрещенной книги. К счастью, никто ничего не заметил.
Мы жили довольно спокойной жизнью. Иногда я ходил с детьми в парк. Брал Бенциона с собой в тайный бейт-мидраш, и мальчик слушал, как люди разбирали разные талмудические вопросы. По субботам и в праздники он ходил со мной молиться в миньян. Может, власти и догадывались о нашей религиозности, но мы молчали, и они молчали.
ПОПЫТКА ВЫЕЗДА
В пятьдесят шестом году, во время Синайской кампании, мы впервые подали документы на выезд в Израиль.
Советская власть рассматривала желание уехать из СССР как измену Родине. В ОВИРе (отделе виз и регистраций Министерства внутренних дел) на меня странно посмотрели и сказали:
- Хорошо, принесите десять своих фотографий и десять фотографий вашей жены. На каждом снимке должна быть круглая печать с места работы и подпись директора с пометкой: ”Личность заверяю”.
К заявлению на выезд, кроме фотографий, требовалось приложить справки и с места работы, и с места жительства, и еще много чего. На работе я сказал, что хочу ехать в Польшу (сестра жены замужем за поляком, едем к ней) - к переезду в соцстраны относились все-таки помягче.
Я принес в ОВИР все требуемое. Нам, разумеется, отказали. После предписанного правилами перерыва (полгода, помнится) мы подали заявление повторно. Потом еще раз. И еще... Кстати, унизительное требование насчет заверения фотографий (оригинал-то стоял перед ними!) повторилось и в пятьдесят седьмом, и в пятьдесят восьмом, и в пятьдесят девятом.
А в шестидесятом году КГБ, очевидно, решил ”покончить с проблемой”. И не шутя за нас взялся.
Началось это так.
КГБ АТАКУЕТ
Двадцать пятого декабря пятьдесят девятого года, утром в канун Хануки, к нам постучали. Дети были дома одни.
Человек, представившийся членом школьного родительского комитета, стал расспрашивать Сару с братом, почему они не в школе (Бенцион в тот год не учился, а Сара занималась вечером). Книги в шкафу были прикрыты занавеской от чужих глаз, но посетитель ее отодвинул и стал их рассматривать. Потом спросил детей, что они читают... (Об этом эпизоде мы знаем со слов детей.)
Жена, готовясь к лекции, принесла домой толстый фолиант под названием ”Советской страны пионер”. Книга рассказывала о ”пионерах-героях”, начиная с Павлика Морозова. Бенчик ее показал.
Но представитель из ”комитета” снял с полки книгу на иврите и поинтересовался у Бенциона, что это за книга. Бенцион сказал, что не знает, и заговорил о Гайдаре. Даже вступил с ”гостем” в дискуссию: почему Гайдар на фронте, избегая плена, последнюю пулю пустил в себя? Если уверен в себе, зачем стреляться? Лучше убить еще одного немца!
Посетитель возразил, что, видимо, таков был приказ партии, и пустился в расспросы, где работают папа и мама. Помню, я сделал потом детям выговор:
- Зачем вы рассказываете, где мы работаем?
Но, честно говоря, кто бы ни был пришедший, газетный корреспондент или агент КГБ, у него и так имелась вся нужная информация.
ФЕЛЬЕТОН
Спустя какое-то время после этого визита позвонили из газеты ”Советская Татария”, расспрашивали, почему я хожу в синагогу, почему то, почему се. Я понял, что-то готовится.
Пошел в редакцию. Попробую поговорить, думаю.
Беседуя с редактором, я спросил:
- А что делать человеку, который верит? Как ему себя вести?
Редактор ответил вопросом на вопрос:
- Помните такого-то? - и назвал фамилию священника, который публично отрекся от своей веры.
По-видимому г это было все, с его точки зрения, что может сделать в этой стране верующий человек. И это было указание на то, чего хотят добиться от меня.
Среди сотрудников редакции был еврей-фельетонист. Мы были знакомы с его матерью. Этот человек пытался предотвратить появление в газете ”разоблачительного” фельетона. Ожидая в коридоре приема, я слышал его разговор с редактором.
Речь шла о моем пребывании в лагере. Информация о таких вещах весьма выигрышна для газеты и весьма проигрышна для того, о ком пишут. Поэтому фельетонист говорил:
- Зачем вам слишком цепляться к этому верующему?
- А откуда ты его знаешь?
- А его весь город знает.
Видимо, на что-то ему удалось повлиять (он многим рисковал, вмешиваясь в это дело), потому что в фельетоне о заключении не было ни слова. Но вымышленная фамилия, которой фельетон был подписан, - Нофенман, напоминала фамилию того еврея. Я думаю, это было сделано, чтобы ввести в заблуждение меня. Когда же он. услышал, чем кончилось дело (меня уволили с работы и собирались лишить родительских прав), с ним случился сердечный приступ.
В фельетоне, помимо религиозности, меня еще обвиняли ”в укрывательстве крупного растратчика”. Подразумевался ни в чем не повинный человек, Бенцион Вугман, родом из Бессарабии
- той части Румынии, которая за год до войны, по соглашению между Сталиным и Гитлером, превратилась в Молдавскую ССР.
Войдя в Бессарабию, Советы в одну страшную ночь пересажали всех людей с ”сомнительным” социальным происхождением. Вуг-ману удалось бежать в Казань.
Он скрывался у меня около полугода. Потом его задержали где-то вне дома (возможно, прямо на улице) и посадили, но фельетон создавал впечатление, что его арестовали прямо у меня.
”Так кто же они, эти укрыватели преступников?” - вопрошал фельетонист.
С Вугманом вообще получилось очень тяжело. Он отсидел десять лет, а когда вышел, прислал мне письмо, которое меня ужаснуло. ”Дорогой Ицхак! - писал он. - Когда я был у Вас в доме, я так понял, что Вы человек верующий. Как же Вы не пожалели мою молодость?”
Оказывается, в КГБ ему сказали, что если бы не мой донос, его бы и пальцем не тронули. А так - вынуждены были ”реагировать”. Это было придумано, по-видимому, чтобы спровоцировать его на какие-то высказывания обо мне.
Я написал Вугману, объяснился как мог, но он мне не ответил...
Фельетон описывал также трагическое положение детей фанатика Зильбера. Как надругательство над ребенком преподносился, например, тот факт, что Сара ездит в школу с тремя пересадками...
Фельетон я сохранил.
СОБРАНИЕ
Когда в советской прессе появлялся какой-то разоблачительный материал, общественность обязана была на него ״откликнуться”. Поэтому за публикацией фельетона последовало учительское собрание в школе.
Оно состоялось шестого января (девятого тевета), в субботу, и продолжалось с десяти утра до шести вечера, полный рабочий день, можно сказать. На собрании присутствовали двадцать пять ”представителей”: от гороно и районо, от горкомов и райкомов партии и комсомола и даже от парткомов, профкомов и комсомольских организаций тех предприятий, где я время от времени читал научные доклады для трудящейся аудитории. Все выступили с речами. Если считать еще директора, завуча, парторга школы и других, выступающих было человек тридцать пять.
В этот же день проходило собрание в школе у Гиты. Ей предложили развестись со мной, обещали за это работу, трехкомнатную квартиру в центре и спокойную жизнь. Оба собрания приняли абсолютно одинаковые, то есть заранее утвержденные, где положено, решения.
Начали с того, что некто Шалашов, заведующий районным отделом народного образования, спросил меня:
- О вас говорят, что вы верите в Б-га. Это верно?
Я сказал:
- Да.
- Подумайте хорошенько. Товарищи, которые работали с вами столько лет и учились с вами в университете, надеются, что вы серьезно подумаете о своем пути и не станете принимать ошибочных решений.
Я ответил, что я верил, верю и буду верить.
Спрашивает Моисеев из райкома партии:
- А что вы будете делать, когда коммунизм будет построен?
Я ответил: ׳,
- Буду работать где угодно, но останусь верующим.
- Это невозможно. У Энгельса написано, что при коммунизме верующих не будет. Ни одного.
Я говорю:
- А я останусь.
Потом начались выступления. Материал для них был собран заранее, в том числе и в университете. Там, видно, не знали, для чего это нужно, и дали мне положительную оценку. Так они и ее ухитрились использовать в своих целях. Дескать, в университете уверены, что этот человек может много дать науке, но ему, видно, наука ни к чему, ему ”суббота” дороже...
Были выступления совершенно нелепые, но тем не менее очень опасные. Например, учитель математики, еврей, рассказал слезную историю о том, что его верующий отец не вызвал врача к больной невестке только потому, что она русская. ”Я всегда уважал Исаака Яковлевича, но теперь, когда я узнал, что он верующий, не уважаю, - сказал он. - Потому что для религиозного еврея делать зло русским - мицва”.
Одно из этих выступлений стоит вспомнить особо. Некая Васильева (она занималась неблагополучными подростками) сокрушалась:
- У меня сердце сжалось, когда я узнала, в каких условиях живут несчастные дети Зильбера. Мясо в магазине им не покупают - нельзя. В субботу запрещают писать, перед едой и после еды надо бубнить какие-то молитвы. Детство - счастливое время, когда катаются на лыжах, на коньках, гуляют в парке, ходят в лес и купаются в реке, - все детство у них отравлено. Я как женщина, как педагог, как мать предлагаю собранию - просить у родного советского правительства лишить родительских прав Зильбера Исаака Яковлевича и Гиту Вениаминовну. Детей пошлем в детдом, как можно дальше, чтобы исключить пагубное влияние родителей. Вырастим их достойными советскими людьми, и они нам еще сто раз скажут спасибо. Товарищи, кто за?
Все подняли руки. Трое воздержались. Только воздержались, но и для этого по тем временам нужна была немалая смелость.
Среди воздержавшихся была активная молодая учительница Черевацкая, еврейка. Она всегда очень бойко выступала против религии. Но тогда, на собрании, ни слова не сказала. Отказалась быть секретарем заседания, сидела молча, как побитая.
Недавно здесь, в Израиле, я где-то выступал. Подходит ко мне один человек, целует меня. Говорит: ”Вы меня не знаете”. Это был брат Черевацкой. Он с семьей приехал в Израиль.
РАСКАЯВШИЙСЯ ДОНОСЧИК
Разные были люди на этом собрании. И сознательно причинявшие вред другим, и безразличные, и молча сочувствовавшие... Где они сейчас? Что с ними? Хотел бы я их увидеть.
Где, например, Федор Тарасович, который подошел ко мне после собрания, довольный, и стал рассказывать, как он следил за мной и в каких местах меня видел. Жил в Казани один старый рав, я его навестил однажды, так он и там меня выследил...
В школе работал один неприятный человек, учитель физики Ахманов, чуваш. Потом я узнал, он писал доносы на завуча, еврея Штейнмана, и на меня. Причем такую чушь, что нарочно не придумаешь: Зильбер якобы ничего не делает на уроке, просто развлекает класс разными байками... Тогда как я - можете мне поверить! -очень усердно работал.
Этот человек был тяжел не только по отношению ко мне. Помогать отцу его обязали по суду, и отец, который предпочитал с ним не встречаться, получал деньги не от сына, а приходил за ними в школьную бухгалтерию.
Так вот, этот доносчик раскаялся. С ним произошла история вроде той, что случилась с Уваровым в лагере, помните?
Незадолго до того, как меня уволили, Ахманов вдруг вызвал меня в раздевалку (там можно было поговорить наедине):
- Слушай, Исаак Яковлевич, я тебе сделал много зла, доносы на тебя писал. Прости меня, пожалуйста.
Я спрашиваю:
- С чего это ты?
Он говорит:
- Я видел во сне тебя и хотел поцеловать, но мне сказали: ”Нет, ты не достоин”. И велели просить прощения.
Я сказал, что мне от него ничего не надо.
После собрания этот Ахманов со своим дружком, учителем литературы, меня провожал. Ахманов предложил:
- У меня два дома в Чувашии. Можешь жить, сколько хочешь.
- Ты не падай духом, - говорил он. - Близко время, когда десять человек из разных народов схватят за полу еврея и скажут: ”Пойдем с вами, ибо мы слышали, что Б-г с вами”.
Действительно, в книгах пророков (Зхарья, 8:23) есть такие слова: ”Так сказал Б-г воинств: в те дни схватятся десять человек из всех народов разноязычных и держаться будут за полу иудея, говоря: пойдем с вами, ибо слышали мы, что с вами Б-г”.
Оказывается, в детстве Ахманов читал Танах.
Больше я его не видел. В школе я уже не работал, а вскоре и вовсе вынужден был бежать из Казани.
Мы с сестрой сидели дома и ждали.
Отец с матерью пришли, когда уже начало темнеть. На них лица не было. Они рассказали, что их уволили с работы. Но не это их волновало: самым опасным было решение забрать детей - Сару и меня. Мы тяжело переживали...
Из рассказа рава Бенциона
ПОСЛЕ СОБРАНИЯ
Каждый стук в дверь, каждый стук! бросал нас в дрожь. Мы боялись, что пришли забирать детей...
Газета напечатала еще одну статью, о собрании. Там сообщалось, что подтвердились все перечисленные преступления и были вскрыты еще и другие: я никогда не ел в столовой, люди видели, как в субботу я прохожу пешком многокилометровые расстояния, и так далее.
Было ясно, что власти хотели заставить меня публично отречься от веры. Кое-кто из знакомых говорил:
- Почему бы не сделать? Все поймут, что это вынужденная ложь.
Но, конечно, делать это было нельзя.
Наша русская соседка тетя Тося в те дни сказала мне:
- Если вы, Исаак Яковлевич, откажетесь от Б-га, кто же тогда останется с Б-гом?
О потере работы мы с женой и не думали - в ужас приводило страшное решение забрать детей. Что делать, чтобы не забрали?
Гита пошла в райком, в отдел агитации и пропаганды, и обратилась к человеку, чей голос был решающим:
- Хотите, я приведу к вам детей, и вы увидите, что не такие уж они несчастные?
Он был неглупый человек и сказал:
- Я все понимаю, мне не надо с ними знакомиться. У нас два условия. Если хоть одно из них не будет выполнено, решение забрать детей войдет в силу. Первое - чтобы дети не появлялись в синагоге, второе - чтобы перешли 6 обычную школу. Но запомните: если их увидят в молельном доме - пеняйте на себя! Пока оставляю.
Большое дело сделал этот человек. Дети были в его руках, а он их не забрал. Спас жизнь! Фамилия его - Зернов.
Надо сказать правду, терпел я только от властей. Все остальные, включая соседей, относились к нам с симпатией. Например, хозяин, у которого мы снимали квартиру, видел, разумеется, что я человек религиозный, но это ему не мешало. Я построил в саду сукку, и все те годы, что я был в лагере, будочка стояла, хозяин ее не тронул. Пока я сидел, он снизил цену за квартиру, понимая, что Гита одна содержит семью.
И в этой истории с нами боролся только КГБ: ни евреи из активных партийцев, ни нееврейские соседи в дело не вмешивались.
Когда после увольнения я забирал документы из школы, директор и учителя пытались как-то объясниться:
- Извини, Исаак Яковлевич, что мы против тебя выступали. Нас просто дрессировали, как собак, и велели сказать то-то и то-то.
- Я им толкую, - рассказывал директор, настоящий старый чекист, - если вы знаете, что нужно говорить, так, может, и говорите сами? А они: ”Нет, говорить будешь ты. А мы тебе дадим материал”.
Отношение со стороны окружающих было скорее сочувственным. Помню, Бенцион играл во дворе с детьми и кто-то из них стал его задирать, бросать в него камни. Наши русские соседи вступились:
- Их и так уже преследуют. Что ты еще его трогаешь?
Некоторые евреи опасались вступать с нами в контакт, но были и такие, что хотели помочь.
История наша наделала шуму. Я понимал, что после фельетона мне и истопником на свечную фабрику не устроиться. Я отправился за Волгу, в поселок Васильево, в часе езды от Казани. Там был стекольный завод. Я договорился, что буду стеклодувом.
БЕГСТВО
Приезжаю домой поздно вечером, усталый.
Нахожу повестку: ”Просим Вас и Вашу жену Гиту Вениаминовну явиться в Комитет государственной безопасности”. Вызов был на сегодня.
Идти было уже поздно. Да и вообще, подумал я, что-то не очень хочется. Войти-то я смогу, а выйти - неизвестно.
Так как же быть? Бежать?
Помню, жена говорит:
- Куда ты убежишь? Тебя все равно поймают. Ведь могут объявить всесоюзный розыск.
Дети, конечно, знали наши дела, и маленький Бенцион вдруг выпалил: ”Папа, убегай!”
Я решил посоветоваться со знакомой женщиной-прокурором. Она говорит:
- Подписки о невыезде вы не давали - розыск объявить нельзя. Вызов в КГБ ни к чему вас не обязывает - вы его не видели. Еще можете как-то исчезнуть.
Я вернулся домой, взял талит и тфилин, больше ничего, попрощался с женой:
- Куда пойду - не знаю. Когда смогу - сообщу.
В половине четвертого ночи я зашел к знакомым за деньгами. Добрался до вокзала, купил билет в Москву и поехал.
В назначенный в очередной повестке день мама пошла в НКВД одна. Перед тем, как идти на допрос, она оставила нам письмо для бабушки и предупредила: если она через час-два не вернется, мы. должны отправить это письмо бабушке в Кзыл-Орду. В письме она просила бабушку приехать и забрать нас.
В НКВД маме сказали:
- Нам нужны не вы, а ваш муж. Мы вообще-то можем его сами привести, но вам же будет лучше, если вы его позовете.
Мама сказала, что не знает, куда исчез муж. На нее кричали:
- Человек не вернулся домой, вышел вечером и пропал - почему ты не заявила в милицию? Мы придем к тебе домой и проверим. Он прячется где-то.
Она сказала:
- Проверяйте.
Из рассказа Сары
Представитель КГБ несколько раз был у нас дома, допрашивал маму. Один раз, помню, он ей сказал: - Что ж вы думаете: с высшим образованием мы будем отпускать?
Зная, что материальные возможности отца очень ограничены, в КГБ не предполагали, что он сразу возьмет и уедет. Они считали, что он скрывается где-то в городе. Кто пойдет к нему? Естественно, дети/ Когда мы с Сарой юли куда-то, даже в магазин за продуктами, мы замечали, что за нами всегда кто-то следит.
Пока мы не знали, что с отцом, было очень тревожно.
Из рассказа рава Бенциона
Мама перевела меня в обычную дневную школу уже после отъезда папы. Чтобы не нарушать субботу, я в этот день оставляла портфель в школе, а уроки делала рано утром перед занятиями в понедельник.
Одна учительница в новой школе проявила ко мне большой интерес. Она подошла и стала ״сердечно” расспрашивать, как у нас дела, где папа... Я сказала, что ничего не знаю, и пустила слезу. На этом "сердечная беседа" закончилась.
Мама очень волновалась, не получая вестей от папы. Женщина-юрист, что посоветовала папе скрыться, успокоила ее: если человек не совершил такого преступления, чтобы можно было объявить его всесоюзный розыск, и исчез на какое-то время, власти должны закрыть его дело. Бот если бы. папа остался на месте, на него можно было бы, ״давить״. Кроме того, казанскому НКВД уже ясно, что они упустили папу, и для них это серьезный провал, который они сами хотели бы скрыть. Мама это прекрасно понимала, ведь в свое время она прошла ״школу״ у Дубина.
Когда папа наконец сумел из Ташкента сообщить письмом, куда нам ехать, он не забыл дать в нем маме и такую ״инструкцию״: пристроить к хорошим людям двух кошек и двух щенят, которые жили у нас во дворе.