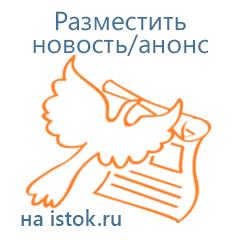Беседа третья
Беседа третья
Я начал разговор:
— На вас жалуются, что при всем своем величии в Торе, вы не соблюдаете простейших законов вежливости, и когда к вам приходят посетители, не оказываете им ни малейшего уважения и даже не приглашаете сесть, как это обычно делают воспитанные люди. Создается впечатление, что мой господин никого не уважает и что все сыны человеческие ничего не значат в его глазах.
Раввин ответил:
— Так происходит не из-за гордыни и высокомерия, не дай Б-г, но просто из-за рассеянности, потому что мысли всегда сосредоточены на том, что я изучаю. К тому же, по большей части, с вопросами и просьбами ко мне приходят слуги и служанки, юноши и девушки - та со своим горшком, этот с куриным желудком или кишками, та с пятнами крови на белье, а эта просит растолковать ее сон и т.п. — в подобных случаях неуместны ни торжественный прием, ни рассаживание гостей. Так уж я привык и веду себя одинаково со всеми людьми.
Я сказал ему:
— Наш праотец Авраам, глубокий старец, который, согласно преданию, был великим знатоком Торы - трактат Авода зара, который он изучал, состоял из 400 глав - тем не менее вскочил и побежал навстречу ангелам, явившимся к нему в облике людей, и сказал им: “Отдохните под этим деревом”.
Боаз, судья Израиля, “пригласив десятерых мужей из старейшин города, сказал им: “Присядьте здесь”. И когда пришли мудрецы Израиля к раби Досе бен Уркинасу, который был почтенным старцем и величайшим знатоком Торы, он каждого усадил на особое ложе, и даже раби Акиве, бывшему еще учеником, он сказал: “Садись, сын мой, садись”.
Гадоль сказал:
— Разве нужно это доказывать?! Просто я тебе говорю, что рассеянность меня донимает, и порой я забываю выполнять свой долг вежливости.
— Об этом-то я и веду речь! — возразил я. - Разве есть у человека право погружаться в свое дело - пусть даже это изучение Торы - настолько, что он забывает обо всем на свете и не может даже принять посетителя с подобающей вежливостью? И тем более, если этот человек - один из вождей своего народа и глава общины, к которому с раннего утра идут люди и который должен быть открыт для людей? Комментаторы утверждают, что именно об этом говорит стих Писания: “Пусть не отходит эта книга Торы от уст твоих, и размышляй о ней днем и ночью, чтобы в точности исполнять все в ней написанное...”. Т.е. организуй свои занятия так, что даже если “не отходит эта книга от уст твоих” и ты всегда о ней размышляешь, все равно ты бы “в точности исполнял все в ней написанное” - чтобы глубокое изучение и размышление не препятствовали бы своевременному выполнению долга.
Гадоль ответил:
— Я думаю, что ты прав и так бы следовало поступать. Я также видел, как комментаторы объясняют слова мудрецов о том, что “Моше, человек Б-жий”, был наполовину ангелом, а наполовину — человеком. Имеется в виду, что Б-жественное начало в нем не вступало в противоречие с человеческим и не вытесняло его. И я знаю, что многие прославленные мудрецы и праведники шли подобным путем. Но не каждый удостаивается столь высокого уровня. Ведь мы знаем, что сказал Бен Азай: “Ну что я могу поделать, если моя душа жаждет Торы?!”. И он не считал это своим особым достоинством и, безусловно, не сказал это себе в похвалу, желая, тем самым, унизить остальных мудрецов Израиля, которые не “жаждут Торы”, как он, - напротив, он сказал это, сожалея, что не удостоился того величайшего уровня, когда духовное и телесное в человеке не вступают в противоречие и не исключают друг друга. Он сетовал, что его жажда Торы препятствует ему в выполнении даже той первой заповеди, на которой держится мир. И я так же говорю о себе: мне известно, что лучше и вернее было бы поступать по-другому, но “что я могу поделать, если душа моя жаждет Торы?!”. Я понимаю и чувствую свой недостаток - нет во мне силы, чтобы в неразрывном единстве выполнять и то, и другое — и “размышлять о ней днем и ночью”, и “в точности исполнять все в ней написанное”. Из-за этого я, безусловно, и переживаю, и плачу!
На этом завершилась наша третья беседа. Но я видел, как в свои последние годы он старался исправить эту привычку. Однажды, когда я зашел к нему, а он, как обычно, был погружен в изучение Торы, он поднял глаза и, заметив меня, сказал: “Садись, пожалуйста!”. Подобного я никогда прежде от него не слышал - и потому, что он вообще не имел обыкновение так поступать, и потому, что мне он тем более никогда не говорил подобные вещи, ведь я был почти что его домочадцем, являлся без всякого разрешения, свободно входил и выходил, стоял и сидел — без всяких правил и церемоний. У меня на глазах блеснули слезы, и я подумал: “Сколько же труда и стараний пришлось затратить этому праведнику, чтобы до такого дойти?!”.