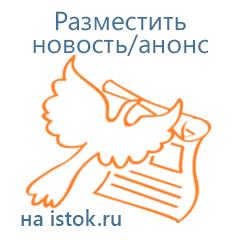На пороге
На пороге
По окончании следствия у меня созрело желание послать жене условный развод. Впервые эта мысль возникла за двадцать четыре часа до «очной ставки с близким человеком». Ведь тогда я был почти уверен, что близкий человек, о котором с улыбкой говорил следователь, — это моя жена. Переживания этих часов и породили мысль о таком разводе, но, приняв решение, я вовсе не тешил себя надеждой, что развод спасет жену от ареста. Основная причина решения была иная.
После заключительной беседы со следователем я не думал уже о том, что он сказал мне и что я ему ответил на прошлых допросах, что он скажет мне и что я отвечу ему, если все же вызовут меня еще раз. Я думал о будущем. На судьбу не роптал. Душа страстно жаждала жизни и свободы, но и в самых смелых мечтах я не забывал спросить себя: «А наступит ли день освобождения? Когда? Как?» Из головы не выходили слова следователя: «Будет суд, будет срок для перевоспитания». Неизбежно возникали вопросы: «Когда кончится срок «перевоспитания»? Сумеешь ли ты пережить его и вернуться?» Разлука предстоит долгая. Возможно, пройдет много лет, и никто даже не узнает, где гниют твои кости. На это тоже грех жаловаться. Ведь сам поклялся: «Посвящаю свою жизнь.» И разве ты страдаешь один? Твое будущее сомнительно, но это не значит, что можно лишить будущего женщину, которая ждет твоего возвращения — и ждет, может быть, напрасно! Ей всего двадцать лет. Ее жизнь впереди. Как можно приговорить ее к ожиданию до седых волос, к бесконечному одиночеству? Ты должен, обязан сказать ей, что, если не вернешься до определенного срока, она может считать себя свободной.
В тюремной камере исчезает интимность — как телесная, так и душевная. Душа заключенного требует возмещения за свое одиночество. И чем больнее оторванность от близких, тем ближе становятся заключенному чужие, далекие люди. С соседом по камере арестант готов говорить обо всем; он советуется с ним по всем вопросам; он хочет узнать мнение соседа. У трех обитателей нашей камеры было мало общего. Каждый из нас пришел из другого мира и хотел вернуться в другой мир. Но заключение сближает и совершенно чужих друг другу людей. Сердца соседей по камере открыты передо мной, и свое сердце я раскрываю перед ними. Мыслями о разводе я тоже поделился со своими соседями и поинтересовался их мнением.
Сначала они на меня рассердились. Сказали, что своими размышлениями и вопросами я зародил в них беспокойство о семьях. Офицер сказал, что в тюрьме, особенно в большевистской, не имеет смысла напрягать мозг и терзать душу тревогой о близких, оставшихся «на свободе». «Помочь им мы все равно не можем, — весьма логично рассуждал вслух офицер, — для чего же мучить себя?» Капрал согласился с ним, и большинством голосов (я воздержался) было «решено не заботиться» о семьях и не говорить на эту тему. Вторая часть решения в камере соблюдалась. В течение многих дней и недель мы говорили об охоте и умении пить, о ксендзах и генералах, о поэзии и опере, об истории и политике. Говорили на многие темы, но о семьях не вспоминали. Что касается первой части решения.
Однажды после утренней молитвы и «кофе» капрал начал, как обычно, рассказывать приснившийся ему сон. «Всю ночь, — сказал он на этот раз, — мне снилась моя старушка мать». Он пересказал сон во всех подробностях: как мать была одета, как спросила, не жмут ли ему новые сапоги, как погладила его по голове, обещала сыночку, что они снова будут вместе, как на вопрос «когда?» не ответила и улыбнулась, так печально улыбнулась. Неожиданно капрал прервал свой рассказ и забормотал: «Мама, мамочка, добрая моя старушка». Глаза его заблестели, он поспешно встал с табурета и отошел в угол, в котором обычно молился. Он был мужчина, солдат и стыдился своих слез.
Но оба моих соседа, офицер и капрал, обвинили меня в явном и постоянном нарушении «соглашения». Офицер заявил, что теперь ему понятны причины моего молчания в последнее время и нежелания вступать в разговоры. Капрал сказал, что теперь он знает, о чем я думал во время «прогулок» и почему ему часто приходилось повторять свои вопросы. Оба они справедливо заявили: «Мы решили помогать друг другу в этом зловонии и не уходить в себя со своими мыслями. Ты же несколько дней встревожен. У нас такое же положение, как у тебя. Если каждый из нас станет тревожиться о семье, как сможем мы помогать друг другу?»
Они были правы, а главное — желали мне добра. Их эгоизм должен был помочь мне. А извинился и поблагодарил их. Они больше не повторяли своих претензий, но предложили обсудить мое намерение, чтобы, приняв окончательное решение, я перестал беспокоиться и мог внимательно слушать охотничьи рассказы офицера и фронтовые истории капрала. Обсуждение было коротким. Соседи вдумчиво рассмотрели мое решение и решительно отвергли мысль, что я не вернусь, как отвергал я в их черные минуты предположения, что они не вернутся домой к своим семьям. И все же, к моему изумлению и радости, они мое решение поддержали. Офицер сказал:
— Я уверен, что твоя жена не примет «подарок», но именно поэтому ты можешь его послать. С Божьей помощью, вы оба еще посмеетесь над этим «разводом».
Я пожал ему руку.
Мы разошлись во мнениях относительно срока, после которого жена может считать себя свободной. Я предложил три года, но офицер считал, что нужно не менее пяти лет. Капрал поддержал его. Я согласился с ними, а они дали согласие в случае необходимости подписать документ в качестве свидетелей. Чтобы жениться на девушке по всем правилам еврейской религии, нужны два «кашерных» свидетеля; чтобы развестись условно в большевистской тюрьме можно обойтись и «некашерными» свидетелями. Я собирался выполнить свое правильное, трудное и жестокое решение, но для этого нужны были бумага и чернила, а получить их в тюрьме не просто. Для отправки письма необходимо разрешение следователя, но следствие уже закончено и следователя нет. Поэтому надо обратиться к следователю с письменным заявлением и попросить разрешения на составление предложения о разводе. Но чтобы обратиться к следователю, нужно разрешение начальника тюрьмы. И снова: обратиться к начальнику тюрьмы можно только с разрешения корпусного офицера. Как, черт побери, в следственной тюрьме НКВД написать заявление о разводе?
Время бежало, и 1940 год подошел к концу. В ночь с 31 декабря 1940 года на 1 января 1941 года в нашей камере состоялась «встреча Нового года». В Лукишках этот день ничем не отличался от всех остальных: в канун Нового года мы получили обычный «кофе» утром и обычный «суп» в полдень и вечером; сигнал подъема раздался в свое время; как всегда, мы застелили тюфяки. Не заставили себя ждать шаги у двери камеры, и мы могли предположить, что охранник наблюдает за нами в «юдаш». Но, отправляясь спать, мои соседи твердо решили, невзирая на «юдаш», через несколько часов, когда часы на Кафедральной площади пробьют полночь, встать и «поднять бокалы» в честь Нового года. Они пригласили меня «на вечеринку», и я приглашение принял.
Мы сделали необходимые приготовления: утром выпили всего по полчашки «кофе». Да не покажется это вам простым делом? Речь идет об узниках НКВД, которые встают и ложатся голодными и сыты только во сне״
Узнику НКВД очень трудно оставить что-то из полученной пайки на более поздний час. Как часто заключенные не могут удержаться и проглатывают утром всю дневную порцию хлеба, а потом ходят голодными до утра. С какой завистью смотрят они на соседей, сумевших поделить порцию на три части! Как часто дают себе слово следовать примеру других! Сколько раз говорят: «Еще один кусочек, остальное сохраню»! И сколько раз нарушают обещание, превращаясь в «хлебных наркоманов»! Алкоголик говорит себе: «Это последний глоток» — и продолжает пить глоток за глотком. Так и эти несчастные, измученные голодом люди отщипывают крошку за крошкой, пока от отложенного хлеба не остается ничего, кроме разъедающего нутро ожидания новой утренней порции.
Во всех тюремных камерах и бараках концлагерей, в которых я побывал, можно было поделить заключенных на две категории: расточители, сразу съедающие полученный хлеб, и сберегатели, делящие хлеб на три порции. В нашей маленькой камере мы тоже поделились на две категории. Капрал был расточитель, обещал себе экономить, но выполнял обещание очень редко. Мы с офицером были сберегатели. В своей экономической политике сосед достиг верха совершенства, и я следовал его примеру: мы делили хлеб не на три, а на четыре (!) порции. Небольшой кусочек мы оставляли на утро — на часы, отделяющие подъем от получения новой порции хлеба. Не стыжусь признаться: иногда, едва раскрыв глаза, я смотрел на полку, где лежал крохотный ломоть. Как радовался я этому куску хлеба! Каким вкусным он мне казался! Гурманы, гурманы, что вы знаете о вкусе хлеба?
Итак, это вовсе не просто прекратить «кофепитие», когда в чашке остается половина коричневой жидкости. Тяжело — особенно для расточителя — весь день видеть на нарах прикрытую миской чашку, и не прикасаться к ней. Но и расточитель превозмог голос желудка, так как кончался старый год, а наступление Нового года надо, по обычаю, «смочить». Водки нет — будем пить «кофе».
Я спал глубоким сном, и разбудил меня офицер, проснувшийся благодаря «внутренним часам» и часам на центральной городской площади: было без четверти двенадцать. Офицер — старший на пиршестве — встал и принес нам чашки. Мы сидели и молча ждали. В наступившей тишине раздался бой часов: раз, два, три, четыре, пять, двенадцать! Подняли «бокалы». Мы пили за Новый год.
Кто мог знать, что начинается не новый год, а новая эпоха? Кончился 1940 год — год победы Германии над Францией, год обмена поздравлениями между Гитлером и Сталиным, год «кровного союза» между Берлином и Москвой. Начался 1941 год — год нападения Германии на Россию, год нападения Японии на Соединенные Штаты, год распространения войны на все районы земного шара, а для нас — год отправки на Крайний Север. Мы всего этого еще не знали.
Через несколько дней после Нового года открылась дверь нашей камеры и раздался шепот:
— Кто на «Б»?
Вопрос удивил меня. Неужели снова следствие? Значит, в царстве НКВД произошел переворот. Ведь теперь не ночь, а день, кто же спрашивает средь бела дня: «Кто на «Б»?» Но когда дверь приоткрыта и охранник стоит на пороге со списком в руках некогда спрашивать почему и как — надо отвечать.
— С вещами! — сказал охранник, когда я назвал имя, отчество и фамилию.
Это тоже одно из наиболее ходовых выражений в коридорах тюрьмы НКВД. Вместо: «Возьмите вещи и идите с нами» — короткое: «С вещами!» Иногда эти слова пробуждают надежду, но чаще всего — сильный страх. Случаи освобождения из тюрем НКВД можно пересчитать по пальцам, заключенные о них вообще ничего не знают. И все же приказ: «С вещами!» — зарождает надежду: «Может быть, я один из тысячи, из десяти тысяч, и приказ означает — домой?..» Но приказ может означать и другое — в неизвестность! Поэтому страх в душе заключенного всегда сильнее надежды.
Последняя беседа со следователем не позволяла иметь какие бы то ни было иллюзии о том, что означало для меня «с вещами».
— Тебя переводят в другую камеру, — сказал капрал.
Я тоже считал, что меня переводят.
— Жаль, — добавил капрал, — мы еще многого не успели выучить.
Я тоже жалел.
В этой маленькой камере я просидел три месяца, а по тюремному счету — целых сто дней и ночей. Привык к соседям, они привыкли ко мне. Между нами были невидимые перегородки, мы спорили и ссорились, но мы успели узнать друг друга, научились понимать и прощать. Мы превратились в маленькую общину с ее неписаным уставом. Здесь я немного учил других и многому научился сам. Здесь я провел период следствия, здесь принял трудное решение. Жаль. Кто теперь будет моим соседом?
Но в тюрьме нет времени для излияний. Раздаются слова, которые слышны от одного края Советского Союза до другого — во всех тюрьмах, во всех концлагерях, на всех перевалочных пунктах: «Давай поскорей!» — ворчит охранник. Надо торопиться, собирать вещи и прощаться с соседями.
Капрал снял с полки мою миску, чашку и деревянную ложку — посуду, с которой заключенный не расстается. Я собрал свои немногие вещи. За время пребывания в тюрьме я получил несколько небольших посылок, но в одной из них была настоящая ценность: зубная щетка. Ах, эти маленькие посылочки. Мы обыскивали их куда более тщательно, чем тюремная охрана. Искали какого-нибудь знака от родных: нитки, вышивки на рукаве, под воротником. Ничего не находили. Но и без вышитой весточки эти маленькие посылочки были для нас длинными письмами: тебя помнят, о тебе заботятся, о тебе думают. Теперь пальцы снова ощупывают матерчатые «письма», от которых несет теплом далекого дома.
— Давай поскорее! — снова ворчит охранник. — закругляйтесь, закругляйтесь.
Да, пора закругляться.
Мой ученик-капрал продолжал помогать мне, но офицер стоял в стороне и напряженно молчал. Дело было, к сожалению, после одного из наиболее тяжелых приступов его любви к порядку. Двадцать четыре часа он не разговаривал ни со мной, ни с капралом. Как с ним проститься? Не было времени думать, не было времени ждать примирения, которое в обычных случаях раньше или позже наступало само собой. Я протянул ему руку, и он, забыв все обиды, горячо ее пожал.
— До свидания, всего хорошего! Всего, всего вам хорошего.
Капрал протянул мне узелок с вещами. Мы обнялись.
— До свидания, всего хорошего!
— Ты все же подумай об этом деле! — успел прокричать офицер.
— Спасибо, от всего сердца спасибо. До свидания, всего хорошего!
Я понял, что он имел в виду. Я еще не успел отправить заявление о разводе. Дверь камеры захлопнулась за мной, разлучив меня с моими соседями.
Больше я их никогда не видел.