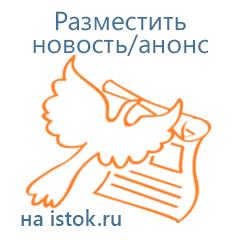Каникулы
Каникулы
Так получилось (и это было в порядке вещей), что, когда мы утолили физический голод, нас стал терзать голод другого рода, еще более сильный: не только тоска по дому, с которым мы, вполне естественно, связывали будущее, но еще более настоятельная, острая потребность в человеческих контактах, умственной и физической работе, в новых разнообразных впечатлениях.
Жизнь в Старых Дорогах, которую можно было бы назвать едва ли не отличной, если относиться к ней как к неожиданным каникулам, дающим возможность отдохнуть какое-то время от тягот и лишений, начинала угнетать нас именно потому, что вынуждала к безделью. Не выдержав, многие уходили искать себе занятий и приключений в других местах. Речь в данном случае шла не о побеге, ведь лагерь не имел ограждения, не охранялся, учета людей русские не вели или вели кое-как; кто хотел уйти — просто прощался с друзьями и уходил. Кое-кто уходил далеко, добирался до Одессы, до Москвы, даже до границы и находил, что искал, узнавая города и людей, библейское гостеприимство простых крестьян, короткую любовь, терпя голод, страдая от одиночества; некоторых сажали под замок в глухих деревнях, подвергали всегда одинаково дурацким допросам в советской полиции. Почти все вернулись назад в Старые Дороги, потому что, хотя вокруг Красного дома и не было колючей проволоки, западные границы охранялись зорко и преодолеть их оказалось невозможно.
Они возвращались и покорялись существованию в этом лимбе, в этом круге первом. Северные летние дни очень длинные: в три часа уже рассветает, а темнеет только в девять или в десять вечера. Походы в лес, еда, сон, опасное купанье в болоте, одни и те же разговоры, планы на будущее — всего этого было мало, чтобы убить время нашего ожидания и освободиться от тяжести, которая с каждым днем все сильнее сдавливала сердце.
Наши попытки сблизиться с русскими были почти безрезультатны. Те из них, кто говорил по-немецки или по-английски, демонстрировали нам вежливое безразличие, часто обрывали разговор на полуслове, словно подозревали подвох или боялись, что за ними следят. Отношения же с восемнадцатилетними солдатами или местными крестьянами складывались проще, но возникали языковые трудности, вынуждавшие прибегать к примитивным формам общения.
Шесть часов утра, но яркий солнечный свет прогоняет остатки сна. С кастрюлей картошки, организованной Чезаре, я направляюсь в ближайший лесок, туда, где протекает ручей. Здесь, где дрова и вода под боком, мы облюбовали себе место для готовки, и сегодня моя очередь мыть кастрюлю и варить картошку. Разжигаю на трех камнях огонь и вдруг вижу неподалеку русского, который готовится заняться тем же. Спичек у него нет, он подходит ко мне и, насколько я понимаю, просит огня. Крепкий, приземистый, с азиатскими чертами лица, без гимнастерки, он держится не очень уверенно. На поясе военных штанов у него болтается штык.
Я подаю ему горящую лучину, он берет ее, но не отходит, а смотрит на меня с настороженным любопытством. Думает, что я украл эту картошку? Сам хочет у меня ее украсть? А может, я ему не нравлюсь или он принимает меня за кого-то еще?
Оказывается, дело в другом. До него доходит, что я не говорю по-русски, это задевает его за живое. Если взрослый нормальный человек не говорит по-русски, значит, он просто не хочет говорить, зазнаётся, считает выше своего достоинства отвечать на вопросы. Но он не настроен враждебно, напротив, он готов протянуть мне руку помощи, спасти меня от моего, не имеющего оправдания, невежества, ведь русский язык такой простой, на нем все говорят, даже дети, которые еще не умеют ходить. Он садится рядом. Я продолжаю беспокоиться за свою картошку и не спускаю с нее глаз, но он, судя по всему, озабочен только одним: помочь мне наверстать упущенное. Его не волнует, хочу я учиться или нет, главное, что он горит желанием научить меня своему родному языку.
Впрочем, учитель из него никакой. Он нетерпелив, объяснять не умеет, требует только одного — чтобы я следил за его объяснениями. Пока речь идет об отдельных словах, у нас получается неплохо, меня даже занимает эта игра. Он показывает на картошку и говорит: «Картофель». Потом хлопает меня по плечу своей увесистой лапой, сует мне под нос указательный палец, прикладывает к уху оттопыренную ладонь и ждет. Я повторяю: «Картофель». Он корчит мину, словно его тошнит: ну и произношение! Потом заставляет меня повторить слово еще пару раз и, махнув на меня рукой, переходит к другому. «Огонь», — говорит он и показывает на костер. На этот раз у меня лучше получается, мой учитель доволен. Он оборачивается в поисках наглядного материала, потом останавливает взгляд на мне, медленно встает на ноги, по-прежнему не сводя с меня глаз, будто хочет загипнотизировать, и вдруг молниеносным движением выхватывает из ножен штык и начинает им размахивать в воздухе.
Я вскакиваю и бегу к Красному дому, бросив картошку на произвол судьбы, но через несколько секунд слышу у себя за спиной дикий хохот: оказывается, это была шутка.
«Бритва», — говорит он и проводит пальцем по сверкающему на солнце лезвию. Я неохотно повторяю. Взмахом паладина он отсекает от дерева ветку, показывает мне и говорит: «Дерево». — «Дерево, — повторяю я за ним, — дерево».
«Я русский солдат», — произносит он. «Я русский солдат», — старательно копирую его я. Снова взрыв смеха, бесспорно, издевательского: он русский солдат, а не я, и это большая разница. Он разражается потоком слов, путано объясняя мне эту разницу, показывает то на мою грудь, то на свою, качает отрицательно головой, утвердительно кивает. По его мнению, учить такого безнадежного тупицу напрасный труд. Оставив меня прозябать в невежестве, он, к моему великому облегчению, возвращается к своему костру.
На следующее утро, в тот же час, на том же месте, я становлюсь свидетелем необычной сцены: кучка итальянцев обступила русского моряка. Он очень молодой, высокого роста, живой, энергичный. Моряк «рассказывает» случай из своей военной жизни. Поскольку он знает, что слушатели не понимают его языка, то объясняется другими доступными ему способами, возможно, даже более для него привычными, чем слова: мимика его лица, отмеченного ранними морщинами, постоянно меняется, глаза и зубы сверкают; он прыгает, жестикулирует, словно исполняя сольный танец, полный экспрессии и очарования.
Ночь… Он очень медленно поворачивается на триста шестьдесят градусов, вытянув вперед руки. Приставляет указательный палец к губам и долго тянет тс-с-с-с — тишина, значит. Потом сощуривает глаза и показывает на горизонт: там далеко-далеко немцы. Сколько? Пять, показывает на пальцах и добавляет для большей ясности на идише: финеф. После этого вырывает рукой круглую ямку в песке и кладет в нее пять палочек. Шестую палочку ставит под углом, это машина, пулемет. Что делают немцы? Тут его глаза загораются неуемной радостью: спать! Он тихо всхрапывает, чтобы было понятно, что немцы спят, как сурки, не ведая, что их ждет. Что он сделал? А вот что: осторожно подкрался с подветренной стороны, как леопард, одним скачком впрыгнул в землянку и выхватил нож. Молниеносная схватка, жестокая борьба. Охваченный актерским экстазом, он повторяет перед нашими глазами все, что делал тогда: со зверской гримасой крутится волчком, делает выпады вперед, отскакивает, наносит удары смертельной силы направо и налево, вверх и вниз. Но это имитация ярости; его оружие (длинный нож, выхваченный из-за голенища) яростно и одновременно мастерски колет, рубит, кромсает в каком-нибудь метре от наших лиц.
Вдруг моряк останавливается, распрямляется, роняет нож. Грудь его вздымается, глаза затухают. Взгляд блуждает по земле, словно ищет и не находит окровавленных трупов. Потерянный, опустошенный, он словно впервые замечает нас, и его лицо озаряется детской застенчивой улыбкой. Кончено, говорит он и медленно уходит.
А вот совсем другая, по сей день оставшаяся таинственной история, история с Лейтенантом, чье имя (возможно, не случайно) мы так и не узнали. Лейтенант был молодой человек, щуплый, со смуглым, всегда мрачным лицом. По-итальянски он говорил превосходно, хотя и с русским акцентом, который, впрочем, вполне мог сойти и за какой-нибудь диалектальный. По отношению к нам он, в отличие от остального русского начальства, не проявлял большого сочувствия и внимания. Разговаривать мы могли только с ним, поэтому атаковали его вопросами: где он так научился говорить по-итальянски? как оказался здесь? из-за чего нас уже четвертый месяц после окончания войны удерживают в России? мы заложники? про нас забыли? почему нам не разрешают писать в Италию? когда мы вернемся домой?… На все наши прямые вопросы Лейтенант отвечал кратко и уклончиво, важным, безапелляционным тоном, плохо вязавшимся с его невысоким военным чином. Правда, мы замечали, что старшие по званию обращаются к нему с непонятной почтительностью, точно боятся его.
В отношениях с нами, равно как и с русскими, он сохранял дистанцию. Никогда не смеялся, не пил, не принимал подношений, даже сигаретой его нельзя было угостить; говорил мало, кратко, словно взвешивая каждое слово. Когда мы впервые его увидели, то, естественно, подумали, что, владея итальянским, он будет представлять наши интересы перед русским командованием, но скоро стало ясно, что у него совсем другие обязанности (если таковые на самом деле у него были и его манера держаться не являлась изощренной формой самоутверждения). Мы в его присутствии предпочитали помалкивать. По каким-то уклончивым фразам мы поняли, что он хорошо знаком с топографией Турина и Милана.
— Вы бывали в Италии?
— Нет, — ответил он сухо, и больше ни слова.
Народонаселение Красного дома пребывало в отличном здравии; пациентов было мало, в основном одни и те же, с постоянными надуманными болезнями, но изредка обращались и с фурункулезом, чесоткой или колитом. Однажды пришла женщина с жалобами на странное недомогание: тошнота, головокружение, приливы, боли в спине. Леонардо осмотрел ее. Она была вся в синяках, сказала, будто упала с лестницы. Наши возможности не позволяли по-настоящему обследовать и диагностировать больных, но методом исключения, а также имея достаточный опыт в этих делах, поскольку среди обитательниц Красного дома такие прецеденты случались нередко, Леонардо объявил пациентке, что, скорее всего, она на третьем месяце беременности. Женщина не расстроилась, не обрадовалась, не выразила ни досады, ни удивления. Выслушала, поблагодарила, но не ушла, а молча села в коридоре на лавку, словно кого-то ждала.
Маленькая, черноволосая, лет двадцати пяти, она выглядела поникшей, готовой ко всему. Ее лицо, не слишком выразительное и привлекательное, показалось мне знакомым, как и говор, с мелодичными тосканскими интонациями.
Где-то я ее точно встречал, но не здесь, не в Старых Дорогах. В моей памяти шевелились смутные предчувствия, однако, как я ни старался, уловить их не мог. Я тщетно пытался вспомнить, почему эта женщина вызывает у меня воспоминание о давнем застенчивом восхищении, о разочаровании, благодарности, страхе, даже о желании, но больше о безнадежности и тоске.
Часы приема закончились, пациентов больше не было, мы собирались закрываться. Поскольку она продолжала неподвижно сидеть на лавке, я спросил, чем мы еще можем ей помочь.
— Не беспокойтесь, — ответила она, — все в порядке, сейчас я уйду.
Флора! Расплывчатые воспоминания неожиданно обрели очертания, соединились в четкую картину; проступили мельчайшие детали, определились время и место, вернулись и тогдашнее состояние души, и общая атмосфера, и запахи. Да, это была та самая Флора, итальянка из Буны, объект наших с Альберто мечтаний в течение целого месяца, неосознанный символ потерянной, причем потерянной навсегда, как мы думали, свободы. С нашей встречи прошел год, а казалось — сто.
Провинциальная проститутка, Флора попала в Германию на принудительные работы, в «Организацию Тодта». Немецкого она не знала, ничем, кроме своей профессии, заниматься не умела, поэтому оказалась в Буне, где ее определили подметать заводские цеха. Усталая, молчаливая, она работала целыми днями, не поднимая глаз от метлы, ни на минуту не отвлекаясь от своей нескончаемой работы. Казалось, она даже солнечного света боялась, потому что редко поднималась на верхние этажи. Покровителя у нее, судя по всему, не было; целыми днями она подметала одно помещение за другим, а когда заканчивала, точно сомнамбула, возвращалась назад и все начинала сначала.
Это была единственная женщина в лагере, которую мы видели изо дня в день, из месяца в месяц, к тому же она говорила на одном с нами языке, но вольным разговаривать с хефтлингами было запрещено. Нам с Альберто она казалась таинственной красавицей, неземным существом. Несмотря на запрет, лишь добавлявший остроты и особой прелести нашим встречам, мы украдкой заговорили с ней: сказали, что тоже итальянцы, и попросили хлеба. Попросили смущенно, понимая, что унижаем самих себя и лишаем романтического налета наши отношения, но голод, с которым трудно договориться, настоял, чтобы мы не упустили подвернувшейся возможности.
Флора принесла хлеб и приносила много раз; с растерянным видом она передавала его нам в самом темном углу и поливала своими слезами. Она нас жалела и хотела еще чем-то помочь, но не знала чем, и к тому же боялась. Она боялась всего, как беззащитный зверек, возможно, даже и нас, но не лично, а как представителей этого странного непонятного мира, вырвавшего ее из родной страны, загнавшего под землю, всучившего ей метлу и заставившего подметать полы, уже подметенные сотню раз.
Мы чувствовали смущение, благодарность, стыд; мы вдруг увидели, насколько мы жалки, и страдали от этого. Альберто, ухитрявшийся находить всякие удивительные вещи, поскольку всегда ходил, не отрывая глаз от земли, нашел где-то расческу, и мы торжественно преподнесли ее Флоре, у которой были волосы. Наши помыслы были чисты и нежны, она снилась нам по ночам. Поэтому мы испытали острое разочарование, смешанное с нелепой и чудовищной ревностью, когда до нас дошло то, что не являлось, по-видимому, тайной с самого начала: Флора встречается с другими мужчинами. Где встречается, как, с кем? Естественно, не в роскошных чертогах, а тут неподалеку, на сене, в крольчатнике, тайно организованном в одном из подвалов совместным кооперативом немецких и польских капо. Делалось это просто: выразительный взгляд, требовательный кивок головой — и Флора отставляет в сторону метлу и послушно следует за случайным мужчиной. Через несколько минут она возвращалась, одна, поправляла на себе одежду и, избегая смотреть нам в глаза, снова бралась за метлу. После такого ужасного открытия хлеб Флоры казался нам горьким, но мы не отказались от него, не перестали его есть.
Я не напомнил Флоре о нашем знакомстве — из жалости к ней и себе. Вспоминая то время, себя в Буне, сравнивая сидящую передо мной женщину с женщиной моих воспоминаний, я понял, что изменился, стал совсем другим, словно из куколки превратился в бабочку. Здесь, почти в райских условиях Старых Дорог, я тоже был грязным, оборванным, усталым, подавленным, никому не нужным, но при этом ощущал, что я молод, полон сил и у меня есть будущее. Флора же не изменилась. Она жила с сапожником из Бергамо, но не как жена, а как прислуга: стирала, готовила и подчинялась ему во всем беспрекословно. Этот наглый бугай контролировал каждый ее шаг и нещадно избивал при малейшем подозрении, отсюда и синяки у нее на теле. В санчасть она пришла тайком и теперь никак не могла решиться уйти, страшась расправы хозяина.
В Старых Дорогах никто от нас ничего не требовал, не подхлестывал нас, никто нами не помыкал, нам было не от чего защищаться; мы как бы оказались в положении жертв наводнения, которым выделили временное пристанище. В нашей однообразной пассивной жизни приезд грузовика с киноустановкой явился примечательным событием. Очевидно, это было передвижное подразделение, которое обслуживало до этого воинские части на передовой и в тылу и теперь тоже возвращалось домой. В его распоряжении были киноаппаратура, электродвижок и запас фильмов. В Старых Дорогах подразделение пробыло три дня, показывая каждый вечер по картине.
Кино крутили в театре. Вместо увезенных немцами стульев просторное помещение заставили грубо сколоченными лавками, неустойчивыми на покатом полу, поднимавшемся от экрана к балкону. На балконе, также имевшем уклон, оставалась свободной лишь узкая полоса внизу: верхняя же часть гениальным решением таинственных архитекторов Красного дома была разбита на каморки без воздуха и света, обращенные дверями к сцене. В них жили одинокие женщины нашей колонии.
В первый вечер показали старую австрийскую картину, довольно среднюю, неинтересную для русских, зато вызвавшую бурю эмоций у нас, итальянцев. Картина была про войну и про шпионов, немая, с немецкими субтитрами: действие происходило в Первую мировую войну на итальянском фронте. По своей наивности она напоминала фильмы союзников: тот же бесхитростный риторический набор — воинская честь, священные границы, герои с глазами на мокром месте, как у невинных девиц, невероятный душевный подъем, с которым идут в штыковую атаку. Только здесь все было наоборот: австро-венгерские офицеры и солдаты — рослые молодцы, истинные рыцари; лица бесстрашных воинов — одухотворенные и чуткие, а крестьянские, внушающие симпатию с первого взгляда, — суровые и честные. Итальянцы — выставленный на посмешище сброд неотесанных простаков с очевидными физическими недостатками: все, как один, косоглазые, пузатые, узкоплечие, кривоногие, низколобые, все, как один, трусливые и жестокие, таким нельзя доверять. У офицеров лица дегенератов и развратников, приплюснутые тяжелыми кепи, знакомыми нам по портретам Кадорны и Диаца[30]; физиономии солдат напоминают свиные рыла и обезьяньи морды — особенно под допотопными касками, залихватски сдвинутыми на затылок или нахлобученными на глаза.
Злодей из злодеев, итальянский шпион в Вене, выглядел странным монстром, что-то среднее между Д’Аннунцио и Виктором-Эммануилом: из-за неправдоподобно маленького роста ему приходилось смотреть на всех снизу вверх. Он носил монокль и галстук-бабочку и с нахальным видом двигался взад-вперед по экрану на петушиных ногах. Вернувшись в расположение итальянской армии, он с постыдным равнодушием командовал расстрелом ни в чем не повинных десяти штатских тирольцев.
У нас, итальянцев, не привыкших видеть себя в образе «врага», ненавистного по определению, потрясенных тем, что кто-то может нас ненавидеть, картина вызвала смешанные чувства: нельзя сказать, что она нам не понравилась, но в то же время она привела нас в смятение и послужила поводом для полезных размышлений.
На следующий вечер должны были крутить советский фильм, и все ждали его с нетерпением: итальянцы — по той простой причине, что это была первая советская картина, которую им предстояло увидеть, а русские потому, что, судя по названию, она была про войну, а значит, со стрельбой и всякими захватывающими сценами, характерными для такого рода фильмов. Услышав о предстоящем показе, в лагерь нагрянули русские солдаты из ближних и дальних гарнизонов, и у дверей театра возникла свалка. Когда двери открылись, все хлынули в них, с грохотом перепрыгивая через лавки, пробивая дорогу локтями и расталкивая друг друга.
Картина оказалась прямолинейно-наивной. Советский военный самолет совершает из-за аварии вынужденную посадку где-то в приграничных горах. Это небольшой двухместный биплан, в котором летит один только пилот. Устранив поломку, он уже готовится взлететь, когда появляется некий солидный человек из местных, шейх в чалме, подозрительный тип, который, разводя китайские церемонии, начинает вкрадчивым голосом упрашивать летчика взять его с собой. Последний дурак и тот бы сообразил, что перед ним опасный преступник, возможно, контрабандист, главарь заговорщиков или иностранный агент, но простодушный летчик легкомысленно поддается на пространные уговоры и предоставляет ему место на заднем сиденье.
Самолет взлетает. Под ним — великолепно снятые сверху горные цепи со сверкающими ледниками (думаю, это были Кавказские горы). И вдруг шейх ловко извлекает из-под халата огромный револьвер и, уперев его летчику в спину, требует изменить курс. Летчик, не оборачиваясь, принимает молниеносное решение: резко бросает самолет вверх и делает мертвую петлю. Перепуганного шейха отбрасывает на спинку сиденья, его мутит. Летчик как ни в чем не бывало продолжает полет по намеченному курсу. Через несколько минут, после новой серии удивительных кадров, запечатлевших горные выси, бандит приходит в себя, наклоняется к летчику и, снова наставив на него револьвер, повторяет свое требование. На этот раз самолет пикирует, несколько тысяч метров несется носом вниз навстречу отвесным скалам и пропастям. Шейх теряет сознание, и самолет опять набирает высоту. Полет продолжается несколько часов, на протяжении которых мусульманин вновь и вновь угрожает летчику, а тот в свою очередь проделывает фигуры высшего пилотажа. Последняя попытка живучего, как кошка, шейха добиться своего. Летчик бросает самолет в штопор, вокруг облака, величественные горы, ледники, и вот наконец приземление на нужном аэродроме. На шейха надевают наручники; вместо того чтобы свежего, как огурчик, летчика подвергнуть дознанию, степенные командиры пожимают ему руку, и тут же на летном поле он получает повышение и робкий поцелуй девушки, которого, казалось, он давно ждал[31].
Русские зрители бурно реагировали на несуразную историю, аплодируя герою и отпуская оскорбительные реплики в адрес предателя. Но это было ничто в сравнении с тем, что произошло на третий вечер.
На третий вечер показывали «Ураган», неплохой американский фильм тридцатых годов. Герой картины — моряк из Полинезии, новая версия «доброго дикаря», простой человек, сильный и безобидный, которого нагло задирает в таверне пьяная компания белых, и он, защищаясь, легко ранит одного из них. Разумеется, правда на его стороне, но никто не свидетельствует в его пользу. Полинезийца арестовывают, судят и быстрее, чем он успевает что-то понять, приговаривают к месяцу тюрьмы. Он мирится со своим положением всего несколько дней — не только из-за почти животной жажды свободы, стесненной к тому же ненавистными кандалами, но, главное, потому, что чувствует, знает: не он, а белые нарушили закон и, если таков закон белых, значит, это несправедливый закон. Он убивает тюремщика и бежит под градом пуль.
Теперь безобидный моряк становится настоящим преступником. На него идет охота по всему архипелагу, но бессмысленно искать его далеко: он спокойно вернулся в свою деревню. Его хватают и отправляют в каторжную тюрьму на одном из дальних островов, где его ждут работа и плети. Он снова бежит, бросившись в море с крутой скалы, крадет каноэ и много дней без еды и питья добирается до родной земли. Обессиленный, он достигает берега, на который вот-вот обрушится обещанный названием ураган. И страшной силы ураган не заставляет себя ждать, а беглец, как положено истинно американскому герою, борется со стихией, спасая не только свою возлюбленную, но и церковь, и священника, и верующих, наивно посчитавших церковь надежным укрытием. Реабилитировав себя, он вместе со своей девушкой направляется навстречу счастливому будущему, и над ними сверкает солнце, которое пробилось сквозь последние убегающие тучи.
Эта история, элементарная и довольно живо поданная, вызвала у русских безудержный восторг. За час до начала буйная толпа, привлеченная афишей с изображением полуобнаженной полинезийской красавицы, уже напирала на двери. В основном она состояла из молоденьких солдат, причем вооруженных. При немалой величине зала было ясно, что мест на всех не хватит, даже если люди будут стоять, потому-то они и толкались, бешено работали локтями, стараясь пробиться поближе к входу. Один человек упал, его чуть не затоптали, на следующий день ему пришлось обратиться в санчасть. Мы думали, ему переломали все кости, но он отделался несколькими ушибами. Крепкий народ! Еще немного, и двери оказались выбитыми, выломанными, кто-то уже орудовал обломками, как палицами: толпа, хлынувшая в театр, с самого начала была возбуждена и настроена воинственно.
В героях фильма они видели не бесплотных персонажей, а друзей и врагов из плоти и крови, и эти друзья и враги были от них в двух шагах. Каждый поступок моряка зрители приветствовали оглушительным «ура», опасно размахивая вскинутыми над головой автоматами; полицейских и тюремщиков осыпали страшными проклятьями, кричали им: «Катись отсюда!», «Чтоб ты сдох!», «Долой!», «Не тронь его!». Когда после первого побега раненого, обессиленного моряка снова заковали в цепи и над ним с язвительной ухмылкой начал глумиться Джон Карадайн[32], зал взорвало. Возмущенная публика истошно кричала, защищая невиновного; грозная толпа мстителей ринулась к экрану, их, в свою очередь, поносили и пытались остановить менее горячие из зрителей, которые хотели узнать, чем кончится дело. В полотно экрана полетели камни, комья земли, обломки дверей, кто-то, негодуя, даже запустил в экран ботинком и угодил точно между глаз ненавистному врагу, оказавшемуся как раз на переднем плане.
Когда дошло до длинной сцены неистового урагана, начался настоящий шабаш. Послышались пронзительные крики нескольких женщин, стиснутых возбужденной толпой. В зале появился шест, потом еще один, их с оглушительным гиканьем передавали над головами из рук в руки. Сначала было непонятно, для чего они, но вскоре все прояснилось: это была, возможно разработанная заранее, операция не попавших в зал, которые томились снаружи, попытка взобраться на балкон — «женскую половину».
Шесты уперли в пол и прислонили к балкону, после чего несколько безумцев, сняв сапоги, стали карабкаться по ним, — так на деревенских ярмарках карабкаются по шестам в надежде заполучить прикрепленный на вершине приз. Сцена штурма балкона отвлекла зрителей от происходившего на экране. Едва одному из штурмующих удавалось подняться над морем голов, десятки рук хватали его за ноги и стаскивали вниз. Образовались группы болельщиков и противников. Одному из смельчаков удалось вырваться из рук толпы и рывками продолжить путь вверх. Немедленно по тому же шесту за ним последовал другой. Первый уже почти достиг балкона, когда между ним и вторым искателем приключений завязалась борьба, продолжавшаяся несколько минут: нижний вцеплялся верхнему в ноги, верхний вслепую отбрыкивался. В это время над парапетом балкона показались головы итальянцев, поспешивших по крутым лестницам Красного дома на помощь осажденным женщинам. Защитники оттолкнули шест, секунд пять он оставался в вертикальном положении, после чего, как сосна, поваленная дровосеками, рухнул на толпу вместе с вцепившимися в него двумя неудачниками. Тут случайно или в результате разумно принятого решения, сказать не берусь, киноаппарат погас и зал погрузился в полную темноту. Загудев еще страшнее, все бросились наружу и, ругаясь на чем свет стоит, высыпали во двор, освещенный луной.
Ко всеобщему сожалению, на следующее утро кинопередвижка отправилась в путь, а вечером русские предприняли новую попытку проникнуть в женские владения, теперь уже с крыши, по водосточным трубам. После этого добровольцы из итальянцев установили ночное дежурство, но все равно, спокойствия ради, женщины покинули балкон и присоединились к основной части женского населения, занимавшей большую общую комнату, — в тесноте, да не в обиде.