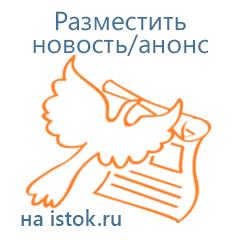Катовицы
Катовицы
Катовицкий сборный лагерь, где я, усталый и голодный, нашел пристанище после недельных скитаний с греком, располагался не в самом городе, а в предместье мод названием Богучицы, на невысоком холме. При немцах здесь был маленький концлагерь, заключенные которого работали на находившейся неподалеку угольной шахте. Дюжину небольших одноэтажных бараков по-прежнему окружала потерявшая уже всякий смысл колючая проволока в два ряда. Ворота охранялись одним-единственным советским солдатом, важно и лениво следившим за входом, в то время как на противоположной стороне в ограждении зияла большая дыра, через которую можно было свободно войти и выйти, но русских это, похоже, не волновало. Кухни, столовая, санчасть и умывальни находились за пределами огороженной территории, поэтому хождение через ворота ни на минуту не прекращалось.
Вооруженный автоматом и штыком часовой — великан монгол лет пятидесяти с огромными узловатыми руками, седыми сталинскими усами и горящими раскосыми глазами — при всей своей варварской и устрашающей внешности был совершенно безобидным. Службу он нес бессменно, и она ему до смерти надоела. Предугадать его настроение было невозможно: иногда он требовал, чтобы входящие и выходящие показывали ему пропуск, иногда спрашивал только имя, иногда ограничивался просьбой закурить, иногда молча пропускал. А то, случалось, вообще никого не пропускал, но при этом равнодушно смотрел, как народ входит и выходит через прекрасно видную ему дыру. Когда становилось холодно, он преспокойно покидал свой пост, шел в барак, над которым дымилась печная труба, бросал на койку автомат, закуривал трубку и угощал всех водкой, если она у него была, а если не было, отправлялся на ее поиски и, не найдя, отчаянно ругался. Несколько раз он вручал автомат первому из нас, кто подворачивался ему под руку, объясняя жестами и возгласами, чтобы его подменили на посту, а сам отправлялся прикорнуть у печки.
Население лагеря было многонациональным: французы, итальянцы, голландцы, греки, чехи, венгры — всего около четырехсот человек, среди них и рабочие из «Организации Тодта»[13], и интернированные военные и бывшие хефтлинги. Четвертую часть составляли женщины.
Фактическое управление лагерем находилось в руках нескольких лиц или групп, хотя формально лагерь подчинялся советской комендатуре, больше походившей не на военное учреждение, а на красочный цыганский табор. Начальником комендатуры был капитан Иван Антонович Егоров — немолодой, малоприятный человек с деревенской внешностью. В его подчинении находились: три старших лейтенанта, добродушный сержант атлетического вида, двенадцать рядовых (среди них и вышеописанный усатый охранник), интендант, докторка, Петр Григорьевич Данченко — совсем молодой, равнодушный к своим обязанностям врач, большой любитель спиртного, табака и женщин; медсестра Марья Федоровна Прима, с которой мы вскоре подружились, и несчетное число сбитых, крепкотелых девушек, положение которых понять было довольно сложно: то ли они мобилизованные, то ли вольнонаемные, то ли живут при комендатуре по доброй воле. Эти девушки работали прачками, кухарками, машинистками, секретаршами, подавальщицами были временными любовницами, постоянными невестами, женами, дочерьми.
Табор располагался неподалеку от лагеря в бывшей начальной школе, и жизнь в нем текла своим чередом, вне всяких правил и расписаний. Единственный, кто о нас заботился, был интендант, пользовавшийся, кажется, авторитетом и у своих, даже старших по званию. Впрочем, разобраться в их отношениях было не просто: относились они друг к другу почти по-родственному, как иены одной большой семьи, игнорируя всякую субординацию. Иногда у них возникали яростные (юры, доходившие до драк, причем даже между солдатами и офицерами, но потом все разрешаюсь благополучно — без дисциплинарных взысканий, без обид, словно ничего и не было.
Долгая война, опустошившая их страну, шла к концу, но для них она уже закончилась. Для них наступила передышка, ведь новые трудности были еще далеко впереди, никто пока не произнес слов холодная война». Они веселились, грустили, отдыхали, ели и пили, как товарищи Улисса после опасного плаванья, вытащив на берег корабли. Однако за этой, доходящей до анархии разгульностью в каждом, если вглядеться в их грубоватые открытые лица, угадывался славный солдат Красной армии, мужественный сын старой и новой России. Безобидные в мирное время и беспощадные на войне, русские сильны внутренней дисциплиной, основанной на единстве и любви друг к другу и к родине, а потому более крепкой, чем беспрекословная, бездумная дисциплина немцев. Живя среди них, легко понять, почему именно их дисциплина, а не дисциплина немцев одержала в конечном счете победу.
Один из лагерных бараков полностью занимали итальянцы — в основном каменщики и шахтеры, более или менее добровольно уехавшие работать в Германию. Все они были люди в возрасте, спокойные, непьющие, трудолюбивые, благожелательные.
Начальник итальянской колонии в лагере, к которому меня адресовали «на зачисление», был совсем другого склада: его, бухгалтера по фамилии Рови, начальником никто не выбирал и не назначал, на эту должность он выдвинул себя сам. Не будучи ни слишком умным, ни слишком честным, он зато обладал очень нужным даром, без которого нигде и никогда нельзя достичь власти, — безграничной любовью к этой самой власти.
Наблюдать за человеком, действующим не по велению рассудка, а по велению своих бессознательных импульсов, занятие в высшей степени интересное, сравнимое с изучением животного, чье поведение основано на инстинктах. Рови добился своего положения, действуя с той же атавистической естественностью, с какой паук плетет паутину, потому что, как и паук без паутины, Рови не мог бы жить без своей должности. Неспособный выучить ни слова по-немецки, равно как и по-русски, он, прибегнув к услугам переводчика и соблюдая все нормы протокола, предложил советскому начальству свою кандидатуру на роль полномочного итальянского представителя и принялся плести собственную паутину: обзавелся письменным столом, самодельными, украшенными завитушками бланками, печатями, цветными карандашами, конторской книгой. Прикрепил к двери броскую табличку «Итальянский штаб — полковник Рови», хотя не был не только полковником, но даже военным. Окружил себя свитой прислужников, писарей, подхалимов, доносчиков, курьеров и телохранителей, с которыми рассчитывался натурой — продуктами, изъятыми из общего рациона, и освобождением от всех общественных работ. Подручные, как и положено, были хуже его. Они следили за исполнением приказов, иногда (правда, редко) прибегая к силе, собирали информацию, обслуживали и всячески ублажали своего хозяина.
В результате какой-то сложной и таинственной умственной деятельности или, может быть, неожиданного озарения он понял, что при общении с людьми в форме ему и самому нужна, даже необходима форма. Проявив недюжинную фантазию, он скомбинировал себе наряд, больше похожий на театральный костюм, чем на униформу: советские сапоги, фуражка польского железнодорожника, черные штаны и тужурка, подозрительно напоминающие фашистские (а возможно, и в самом деле фашистские). Его воротник украшали петлицы, фуражку — золоченый кант, рукава — нашивки, а грудь была вся увешана медалями.
Но, несмотря ни на что, его нельзя было назвать диктатором. Неплохой администратор, он в своих притеснениях, поборах и злоупотреблениях всегда знал меру, а что касается всякой писанины, тут он держал пальму первенства. Русские, испытывая необъяснимую робость, даже благоговение перед официальной бумагой (смысл которой зачастую им непонятен), питали платоническую любовь к канцелярщине, которой сами овладеть не могли и даже, кажется, не хотели, поэтому в комендатуре к Рови относились терпимо-доброжелательно, если не сказать уважительно. Как ни парадоксально, но между ним и капитаном Егоровым возникла взаимная симпатия, хотя оба они казались мрачными, желчными мизантропами, избегали общения и стремились закрыться каждый в своей скорлупе.
Здесь, в Богучицах, я встретил Леонардо, который уже успел утвердиться в должности врача и обрасти не слишком щедрой, но многочисленной клиентурой. Он, как и я, был узником Буны, а в Катовицы попал на несколько недель раньше, добравшись сюда быстрее и проще, чем я. Врачей среди хефтлингов Буны было великое множество, но лишь единицы (практически только владеющие немецким или особым даром выживания) сумели доказать свою компетентность в медицине главному эсэсовскому врачу и получить разрешение на работу по специальности. Поскольку у Леонардо не было связей, он весь свой лагерный год проработал на общих, самых тяжелых, работах и выжил просто чудом. Он плохо выдерживал физические нагрузки и холод и много раз попадал в санчасть — то из-за распухших ног, то из-за незаживающих ран, то из-за общего истощения. Три раза, на трех, проводившихся в санчасти селекциях его приговаривали к смерти в газовой камере, и три раза благодаря солидарности коллег-медиков он счастливым образом избегал страшной участи. Но дело было не только в везении, а в ценнейшем для лагерных условий даре — в его безграничном терпении, даже смирении, не природном, религиозном или трансцендентном, а сознательном, воспитываемом в себе день за днем, в мужественной уравновешенности, которая чудом удерживала его на грани коллапса.
Санчасть находилась в той же школе, что и русская комендатура, в двух довольно чистых комнатках. Ее создала из ничего Марья Федоровна, военная медсестра. Женщина лет сорока, Марья была похожа на лесную кошку — раскосые, дикие глаза, приплюснутый нос с широкими ноздрями, движения быстрые и бесшумные. Впрочем, она и родилась среди лесов — в самом сердце Сибири.
Марья была энергичная, грубоватая, решительная, деловая. Медикаменты для санчасти она добывала разными способами. Частично они поступали по официальным каналам, с советских военных складов; частично — по неофициальным, через разветвленную сеть черного рынка; но был еще и третий (самый продуктивный) источник: разграбление запасов в концлагерях, немецких больницах и аптеках — иными словами, присвоение того, что, в свою очередь, было присвоено немцами во всех странах Европы. Таким образом, лекарства поступали безо всякого отбора, и в санчасти скопились сотни упаковок фармацевтической продукции с инструкциями на всех языках. Чтобы этими лекарствами пользоваться, их требовалось рассортировать и каталогизировать.
В Освенциме, среди много другого, я твердо выучил (и это был один из самых важных уроков), что ни в коем случае нельзя быть «нулем без палочки». Все дороги закрыты тому, кто ничего не умеет, и, наоборот, открыты перед тем, кто знает толк хоть в каком-то деле, даже самом ничтожном. Вот почему, посоветовавшись с Леонардо, я пришел к Марье и предложил себя в качестве фармацевта-полиглота.
Марья Федоровна смерила меня взглядом женщины, знающей цену мужчинам. Значит, я доктор? Да, ich bin Doktor, не кривя душой, подтверждаю я, воспользовавшись многозначностью этого слова. Но сибирячка не говорит по-немецки, зато (не будучи еврейкой) немного знает идиш. Где она могла его выучить? Вид у меня не слишком внушительный и привлекательный, но для такой работы, может, и сойдет. Марья вынимает из кармана скомканный листок бумаги и спрашивает, как меня зовут.
Когда я к «Леви» добавляю «Примо», ее зеленые глаза загораются сначала подозрительностью, потом удивлением, потом доброжелательностью. Получается, мы почти родственники, говорит она, я Примо, а она Прима. Прима — это фамилия, а полностью Марья Федоровна Прима. Значит, договорились, я могу приступать к работе. Обувь и одежда? Да, нелегкая задача, но она поговорит с Егоровым и еще кое с кем, может, и удастся что-нибудь для меня подобрать. Она записывает мое имя на бумажном клочке, а на следующее утро уже торжественно вручает пропуск — доморощенного вида документ, который тем не менее дает мне право беспрепятственно выходить из лагеря в любое время дня и ночи.
Я жил в комнате с восьмью итальянскими рабочими и каждое утро отправлялся в санчасть на работу. Марья Федоровна вручала мне гору разноцветных коробочек для классификации и баловала меня небольшими подарками — глюкозой (вкуснейшей!), лакричными или мятными пастилками, а иной раз дарила шнурки, пакетик соли или концентрат пудинга. Однажды вечером она пригласила меня к себе в комнату на чашку чаю. На стене над ее кроватью висело семь или восемь фотографий мужчин в военной форме. Почти всех их я знал в лицо: это были офицеры и солдаты комендатуры. Марья Федоровна называла их по именам и говорила о них с сердечной непосредственностью: ведь она их столько лет знала, всю войну с ними прошла!
Работа фармацевта не отнимала много времени, поэтому через несколько дней Леонардо позвал меня помощником в амбулаторию. Первоначально эта амбулатория должна была обслуживать только обитателей лагеря, но очень скоро от того, что здесь лечили бесплатно и не задавали лишних вопросов, клиентура пополнилась русскими военными, жителями Катовиц, проезжими, нищими и темными личностями, не хотевшими иметь дела с властями.
Ни Марья, ни доктор Данченко ничего не имели против такого порядка вещей. Данченко и не мог ничего иметь против, потому что только и делал, что ухаживал за девушками на манер опереточного герцога, а когда по утрам появлялся с короткой проверкой, уже был навеселе. Тем не менее спустя некоторое время Марья вызвала меня к себе и очень официально сообщила, что «Москва распорядилась» упорядочить работу амбулатории. Для этого необходимо завести журнал и вписывать в него фамилии и возраст пациентов, диагноз, какие лекарства выданы и в каких количествах.
По существу, в подобном распоряжении ничего бессмысленного я не видел, но мне хотелось уточнить с Марьей некоторые детали, например, как проверить подлинность фамилии пациента. Марья рассеяла мои сомнения: можно верить пациенту на слово, «Москву» это вполне устроит. Еще одна проблема, посерьезнее: на каком языке вести записи? Итальянский, французский и немецкий исключаются, ни Марья, ни Данченко этих языков не знают. Значит, по-русски? Но русского не знаю я. Марья на секунду задумалась, но вдруг ее словно осенило.
— Галина! — воскликнула она. — Галина, вот кто нам нужен!
Она знает немецкий, сказала Марья, и я смогу диктовать ей по-немецки, а она будет переводить и тут же записывать по-русски. И Марья, чей авторитет почему-то был очень велик, велела немедленно позвать Галину.
Так началось наше сотрудничество с Галиной, восемнадцатилетней украинкой из Казатина, одной из девушек комендатуры. Она была черноволосая, веселая, женственная, с тонким выразительным лицом и умными глазами. Единственная из всех, она умела носить одежду с изяществом, и ее ноги, руки и плечи отвечали привычным для меня, итальянца, представлениям о пропорциях женской фигуры. Она неплохо знала немецкий, и из вечера в вечер с ее помощью, после утомительного обдумывания и обсуждения, требуемые сведения заносились огрызком карандаша в торжественно врученную нам Марьей амбарную книгу, заполняя ее серые страницы. Как итальянские слова «asma», «caviglia», «slogatura»[14] перевести на немецкий, а потом на русский? То и дело впадая в мучительные сомнения, мы вынуждены были прибегать к сложной жестикуляции, и обычно эти лексические изыскания заканчивались звонким смехом Галины.
Мне реже удавалось развеселиться, потому что рядом с Галиной я чувствовал себя слабым, нездоровым, нечистым. Я стеснялся своего жалкого вида, отросшей щетины, лагерной полосатой одежды, и, когда она смотрела на меня своим детским взглядом, я замечал в нем не столько жалость, сколько брезгливость.
Но как бы там ни было, через несколько недель совместной работы между нами протянулась тонкая ниточка взаимного доверия. Галина объяснила мне, что относиться слишком серьезно к записям не следует: Марья Федоровна — просто «сумасшедшая старуха», ей главное, чтобы амбарная книга заполнялась, а вникать в наши записи она не станет; доктору Данченко тоже все равно, он никак в своих отношениях (известных почему-то Галине во всех подробностях) с Анной, Таней и Василисой не разберется, ему наши записи нужны «как прошлогодний снег». Мы стали чаще отрываться от скучной бюрократической работы, и в перерывах Галина, покуривая, рассказывала мне свою историю.
Два года назад, в самый разгар войны, она с родителями бежала в предгорья Кавказа и там попала на службу в эту самую команду. Попала очень просто: ее, можно сказать, остановили прямо на улице и забрали в штаб напечатать на машинке под диктовку несколько писем. Так она и осталась там, уже не могла освободиться (а я думаю, не столько не могла, сколько не хотела), и команда стала для нее родной семьей. Она прошла с ней десятки тысяч километров по разоренным тылам бесконечного фронта, растянувшегося от Крыма до Финляндии. Формы она не носила, должности и звания не имела, но следовала за командой, потому что приносила пользу своим армейским товарищам и была их подругой, потому что шла война и каждый должен был выполнять свой долг, и еще потому, что мир велик и разнообразен и хорошо повидать его, пока ты молод и у тебя нет никаких забот.
А у Галины и не было никаких забот. Утром, распевая, как жаворонок, она шла в умывальню с покачивающимся на голове тюком белья, днем, поджав босые ноги, барабанила в комендатуре па пишущей машинке, по воскресеньям я часто встречал ее у крепостной стены под ручку с солдатом (каждый раз разным), а вечером видел в романтически томной позе на балконе, под которым оборванный поклонник-бельгиец исполнял ей на гитаре серенаду. Она была простая, наивная, живая и веселая девушка, чуть кокетливая, чуть легкомысленная, не слишком образованная, но у нее, как и у ее товарищей, друзей, возлюбленных было чувство достоинства, свойственное тем, кто знает, зачем работает и ради чего воюет, кто верит, что вся жизнь еще впереди.
В середине мая, спустя несколько дней после окончания войны, она пришла попрощаться перед отъездом: ей сказали, что она может возвращаться домой. А проездные документы? Деньги на дорогу?
— Не надо, — смеясь ответила она, — не пропаду. — И исчезла, ушла нескончаемыми дорогами своей необъятной страны, затерялась среди русских просторов, оставив после себя терпкий аромат земли, молодости, радости.
В мои обязанности, кроме помощи в амбулатории, входило еще проводить вместе с Леонардо проверки на вшивость.
Это было просто необходимо, поскольку в тех местах свирепствовала эпидемия сыпного тифа, часто со смертельным исходом.
Работа не из приятных: мы должны были обойти все бараки, предложить каждому снять и вывернуть перед нами рубашку, потому что вши обычно гнездятся и откладывают яйца в швах и складках носильных вещей. Тифозные вши имеют на спинке красное пятнышко. Наши подопечные любили без устали повторять, что, если посмотреть на это пятнышко в увеличительное стекло, можно разглядеть крошечные серп и молот. Еще вшей называли пехотой. Соответственно блохи были артиллерией, комары авиацией, клопы парашютистами и лобковая вошь саперами. Русское слово «вши» я узнал от Марьи, которая вручила мне вторую амбарную книгу и велела ежедневно записывать количество и имена завшивевших, а тех, кто завшивел вторично, подчеркивать красным карандашом.
Рецидивов обычно не случалось, если не считать истории с Феррари, получившей широкую известность благодаря его громкой фамилии. Феррари был из Милана, у него полностью отсутствовала воля к сопротивлению. Арестованный за уголовное преступление, он отбывал наказание в тюрьме Сан-Витторе, когда в 1944 году немцы поставили его перед выбором: либо продолжать отсиживать свой срок в Италии, либо ехать работать в Германию. Он выбрал последнее. В лагере таких набралось около сорока человек, почти все воры и мошенники. Эта разношерстная неспокойная компания жила своим обособленным миром и доставляла немало хлопот русскому командованию и бухгалтеру Рови.
Сам Феррари относился к своим коллегам с нескрываемым пренебрежением и общению с ними предпочитал одиночество. Лет сорока, ко всему равнодушный, худой, желтый, почти полностью облысевший, он целыми днями лежал на нарах и читал. Неутомимо читал все, что попадалось под руку: газеты и книги на итальянском, французском, немецком, польском. Раз в два-три дня, во время проверки, он говорил мне:
— Эту книгу я кончил. Нет у тебя чего-нибудь еще почитать? Только не по-русски, знаешь, в русском я не силен.
Его не то что полиглотом, его грамотным назвать было трудно, но он «читал» любую книгу от корки до корки, шевеля губами, разбирая буквы, складывая слоги и мучительно реконструируя слова, смысл которых его не интересовал. Чтение для него было все равно что для других, в зависимости от уровня, разгадывание кроссвордов, решение дифференциальных уравнений или вычисление орбит астероидов.
Человек он был необычный. Однажды он разоткровенничался и поведал мне свою историю, которую я здесь и привожу.
«Много лет я занимался в воровской школе на площади Лорето в Милане. Там был манекен с колокольчиками и кошельком в кармане. Нужно было вытащить кошелек так, чтобы колокольчики не зазвенели, но у меня никак не получалось. Поэтому воровать мне не разрешили, а назначили шухерить. Два года я стоял на шухере, но разве это работа? Риску много, а заработок маленький.
Думал я, думал и решил: есть лицензия, нет лицензии, а если я хочу заработать свой хлеб, надо работать самостоятельно.
Тут как раз война — эвакуация, черный рынок, трамваи битком набиты. Сел я на «двойку» у Порта Лодовика, потому что в том районе меня никто не знал. Рядом стоит одна с большой сумкой, щупаю карман — в кармане кошелек. Потихоньку достаю писку…»
Здесь придется сделать небольшое техническое отступление. Писка, как объяснил мне Феррари, — это специальное приспособление, изготовленное из половинки безопасной бритвы; им разрезают сумки и карманы, поэтому оно должно быть очень острым. Еще можно таким лезвием лицо порезать обидчику, это называется «по лицу писануть».
«…начинаю разрезать карман. Уже почти разрезал, вдруг женщина, не та, что с сумкой, нет, совсем другая, как заорет: “Вор! Держи вора!” Ей-то я что сделал? Ее-то какое дело? Еще понимаю, Пыла бы она из полиции, а то так, сбоку-припеку, ни меня, ни ту, с сумкой, раньше и в глаза не видела! Трамвай, конечно, остановился, меня схватили, потом я попал в тюрьму Сан-Витторе, оттуда в Германию, а из Германии сюда. Видишь, что значит проявлять инициативу?»
С тех пор Феррари инициативы не проявлял. Он был самым послушным, самым кротким пациентом: раздевался по первому требованию, показывал рубашку со вшами, наутро покорно отправлялся в дезинфекцию, но при следующем контроле вши почему-то снова оказывались на месте, и все повторялось сначала. Перестав проявлять инициативу, он и сопротивляться перестал. Даже вшам.
Моя работа давала мне по крайней мере два преимущества — пропуск и улучшенное питание.
В Богучицах, надо честно признаться, кормили нас совсем неплохо. Мы получали тот же рацион, что и русские военные, а именно: килограмм хлеба каждый день, два супа, одну кашу (блюдо из пшена или другой крупы с мясом и салом) и большое количество слабого подслащенного чая, чая «по-русски». Но мы с Леонардо еще не залечили нанесенную нам в Освенциме травму, скорее психологическую, чем физическую: после проведенного там года нас преследовал постоянный неконтролируемый голод, поэтому общего рациона нам было недостаточно.
Марья разрешила нам дополнительно обедать в санчасти. Там готовили две немолодые парижанки, участницы Сопротивления («maquisardes»), бывшие узницы концлагеря, потерявшие там своих мужей. Это были молчаливые, скорбные женщины, но их преждевременно состарившиеся лица несли на себе печать не только страдания, но и духовной победы над этим страданием, нравственной силы, присущей политическим борцам.
Одна из них, по имени Симона, обслуживала столовую. Она приносила мне первую порцию супа, потом вторую, потом смотрела на меня почти испуганно и спрашивала:
— Vous r'ep'etez, jeune homme? (Вам повторить, молодой человек?)
Я смущенно говорил «да», испытывая стыд за свою животную прожорливость. «R'ep'eter» четвертый раз под строгим взглядом Симоны я обычно не решался.
Что касается пропуска, то он скорее был признаком социального отличия, чем необходимостью, потому что и без него ничего не стоило пролезть через дыру в ограждении из колючей проволоки и пойти в город. Именно так поступали, к примеру, воры, отправляясь заниматься своим ремеслом в Катовицы и даже дальше. Многие потом уже не возвращались, кое-кто возвращался, но не скоро и под другим именем, но это никого не волновало.
И все-таки пропуск давал право выйти из лагеря законным путем, а не месить грязь, обходя лагерь кругом. По мере того как я набирался сил, а погода улучшалась, мне все сильнее хотелось отправиться в экскурсию по незнакомому городу. 15 самом деле, какой же смысл в нашем освобождении, если нас продолжают держать за колючей проволокой? Впрочем, местные жители относились к нам доброжелательно, пускали бесплатно в трамвай и в кино.
Как-то вечером я поговорил с Чезаре, и мы составили программу-максимум на ближайшие дни: решив совместить приятное с полезным, мы договорились и делом заняться, и по городу побродить.