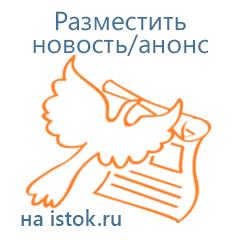Размышления об Эйнштейне
Свое право на бессмертную славу Альберт Эйнштейн завоевал присущим ему невероятным научным гением, в специфике которого я, подобно подавляющему большинству человечества, абсолютно некомпетентен. Повсеместно Эйнштейн был признан наиболее революционным новатором в физике после Ньютона. Это определяло то исключительное уважение и внимание, с которыми относились повсюду к его личности и к его суждениям по любым проблемам. Он это осознавал. Несмотря на свою потрясающую скромность, на смущение перед лестью и на неприязнь к рекламе, он испытывал удовольствие от мысли, что если вообще возможно преклонение перед отдельными личностями, то, скорее, оно выпадает на долю тех, кто прославился своими достижениями в сферах интеллекта и культуры. И в самом деле, если специалист в математической физике может стать всемирной величиной, то это является замечательным явлением и делает честь человечеству.
Если сравнить воздействие идей Эйнштейна на области, лежащие вне границ теоретической физики (и, вероятно, философии физики), с тем влиянием, которые оказывали труды других великих первопроходцев науки, то можно сделать один дополнительный вывод. Не углубляясь далеко в историю, начнем с Галилея. Его метод и его естественнонаучный подход сыграли решающую роль в развитии общественной мысли XVII столетия и оказали серьезное воздействие на проблемы, находящиеся за пределами научного поиска. Влияние идей Ньютона было безграничным; независимо от того, правильно они воспринимались или нет, вся программа Просвещения, особенно во Франции, вполне осознанно базировалась на принципах и методах Ньютона и черпала свою уверенность и мощное влияние из его захватывающих достижений. А это, в свою очередь, изменило — естественно, в сторону усиленного развития - некоторые основные концепции и направления современной культуры Запада: этические, политические, технологические, исторические, социальные... Нет такой сферы мысли или жизни, которая избежала бы последствий этого культурного процесса.
В меньшей степени это справедливо по отношению к Дарвину70 — теория эволюции задела многие сферы человеческого разума вне биологии. Она повергла в уныние теологов, воздействовала на исторические науки, этику, политику, социологию, антропологию. Социальный дарвинизм, основанный на неправильном толковании идей Дарвина и Хаксли71, с его евгенической и зачастую расистской подоплекой нанес социальный и политический урон обществу. Я, вероятно, не решусь отнести к разряду естествоиспытателей Фрейда72, однако его учение, несомненно, также оказало воздействие на области, далеко отстоящие от психологии, — историю, жизнеописания, эстетику, социологию, педагогику.
Но Эйнштейн? Его научные достижения относились к философии науки; его собственные взгляды — первоначальное восприятие феноменализма Маха73и и последующий отказ от его точки зрения — показываю, — что он обладал даром мыслителя и, естественно, давал свою оценку основополагающим концепциям Спинозы, Юма, Канта, Рассела74. В этом отношении Эйнштейн и Планк73 были поистине уникальным явлением в среде выдающихся физиков нашего столетия. Однако воздействовал ли он на мировоззрение своего времени в целом? На мнение интеллектуалов? Несомненно, он являл собой героический образ — человек чистого сердца, величественного ума, выдающегося морального и политического мужества, посвятивший жизнь непоколебимому стремлению к правде, веривший в личную свободу и социальное равенство, с симпатией относившийся к социализму и ненавидевший национализм, милитаризм, угнетение, насилие, потребительство. Но если отрешиться от этого материализованного воплощения человеческих добродетелей, отрешитьря от его стремления к социальной справедливости и уникальной интеллектуальной мощи, то есть если не принимать в расчет его образцовую жизнь и его личность, которая является во мнении окружающих одной из наиболее развитых, уважаемых и гуманистичных во всем мире, — какое же воздействие оказал Эйнштейн на общество, где многие, судя по всему, руководствуются совершенно иными идеалами?
Слово “относительность” и по сей день ошибочно трактуется как релятивизм, отрицание истины или моральных и прочих ценностей, или, по крайней мере, сомнение в их объективном характере. Но это — очень старое и знакомое заблуждение. Релятивизм в том смысле, в каком его понимали древнегреческие софисты, римские скептики, французские и английские субъективисты, немецкие романтики и националисты и в каком он и поныне выводит из себя теологов, историков и широкую публику, полностью противоречил тому, во что верил Эйнштейн. Он был человеком ясных и твердых моральных убеждений, которые проявились во всей его жизни и в его делах. Его концепции объективной реальности была присуща научно обоснованная система; цель науки он видел в объективном познании независимо существующей реальности — пусть даже методы, при помощи которых это познание производилось и описывалось, являлись произвольными построениями человеческого разума.
В чем же заключается то общее воздействие, которое оказало его учение? Современная теоретическая физика не может даже в самых общих чертах получить столь удачное изложение теорий Эйнштейна на общепринятом языке, как, к примеру, были выражены Вольтером76 основные концепции Ньютона. Выдающиеся умы Британии вроде Холдейна77 и Герберта Сэмюэла78 пытались извлечь из общей теории относительности общеметафизические или теологические истины. Как правило, они оказывались весьма банальными, но это лишний раз показывало, что таланты этих исследователей лежат в иных сферах.
Итак, воздействие научных идей Эйнштейна на общественную мысль своего времени остается под определенным сомнением. Однако бесспорно, что его взгляды соответствуют одному из наиболее позитивных политических явлений современности. Эйнштейн вложил свой престиж поистине всемирного масштаба, а по сути — и душу, в движение, направленное на создание государства Израиль. И отдельные личности, и целые нации в долгу перед теми, кто помогал им улучшить свое самочувствие. Ни один сколько-нибудь уважающий себя сионист не откажется, будь у него такая возможность, воздать Эйнштейну должное. На протяжении всей жизни Эйнштейн не переставал поддерживать сионистское движение и интересоваться Еврейским университетом. Не раз он спорил с Вейцманом; его отношение к Еврейскому университету и, в частности, к его первому президенту было в высшей степени критичным, а изъяны сионистской политики по отношению к арабам вызывали у него чувство сожаления. Но он никогда не отказывался от веры в основополагающие принципы сионизма. Если сегодняшние молодые люди (да и не только они), будь то евреи или иноверцы, ненавидящие подобно Эйнштейну национализм и сектантство, стремящиеся к социальной справедливости и верящие в общечеловеческие ценности, если такие люди хотят узнать, почему он, дитя ассимилированных баварских евреев, поддержал возвращение евреев в Палестину, сионизм и еврейское государство, поддержал не безоглядно и не без терзаний, которые испытывает любой порядочный и чуткий человек по отношению к поступкам, совершаемым во имя его народа, которые при этом кажутся ему неверными или неразумными, но тем не менее поддержал твердо и на всю жизнь, — если они хотят понять это, им следует прочитать его труды. Со свойственной ему ясностью и даром проникновения в самую суть любого предмета — независимо от того, относится этот вопрос к сфере науки или общественной жизни — Эйнштейн просто и правдиво высказал все, что считал необходимым сказать. Позвольте мне напомнить некоторые из его заявлений и поступков и в особенности тот путь, который им предшествовал.
Он родился в Ульме в атеистической семье. По-видимому, во время учебы в Мюнхене он не сталкивался с дискриминацией; его острая реакция на школу, даже приведшая к чему-то наподобие нервного срыва, как кажется, не была реакцией на антисемитизм. Вероятно, он противился казарменной муштре и националистическому угару, царивших в системе образования в Германии на исходе прошлого столетия. С перерывами он учился в Милане и Цюрихе, преподавал в Цюрихе, занимал некий пост в бернском патентном бюро, а затем — университетские должности в Праге и Цюрихе, после чего в 1913 году находившиеся тогда в зените славы Нернст79, Хабер80 и Планк уговорили его перейти на исследовательскую работу в Берлин.
Нет нужды описывать атмосферу, царившую в Пруссии накануне Первой мировой войны. В 1929 году в письме германскому государственному министру Эйнштейн писал: ” Когда я приехал в Германию пятнадцать лет назад (то есть в 1914 году), я впервые обнаружил, что я — еврей. Этим открытием я более обязан неевреям, нежели евреям". Несмотря на сказанное, важную роль сыграло и влияние германских сионистов, в особенности одного из лидеров германских евреев Курта Блюменфельда81, с которым Эйнштейна до конца дней связывали узы теплой дружбы. Но как и в случае с Герцлем, решающим фактором в становлении его еврейского самосознания было не столько открытие для себя некой не известной доселе доктрины (ее приверженцев он знавал еще в Праге, но в ту пору она его, вероятно, не заинтересовала), сколько шовинизм и ксенофобия, охватившие широкие круги берлинского населения и приведшие его к пониманию, насколько зыбко положение еврейской общины даже на цивилизованном Западе. ”Человек может процветать, — заявлял он, — только в среде некоего сообщества. Отсюда следует, что еврею, утратившему связь со своим собственным народом и считающемуся иностранцем в глазах народа, среди которого он обитает, грозит опасность”. "Трагедия евреев заключается... в том, что они утратили опору сплачивавшей их общины. Результатом стало отсутствие у личности прочного фундамента, что в крайнем проявлении равносильно душевному разладу”.
Единственным выходом, доказывал он, является развитие тесной связи с неким активным сообществом, что позволило бы отдельным евреям сносить ненависть и унижение, зачастую достающиеся им от остального человечества. Герцль достоин восхищения, говорит нам Эйнштейн, за то, что ”во весь голос” заявил: только создание национального очага в Палестине способно излечить это зло. Оно не устранится ассимиляцией. Евреи, обитавшие в старых германских гетто, были бедны, лишены гражданских и политических прав, изолированы от европейского прогресса. Тем не менее эти непросвещенные и униженные люди обладали по сравнению с нами одним великим преимуществом — каждый из них каждой клеточкой души принадлежал той общине, которая принимала его полностью, в которой он чувствовал себя вполне уважаемым членом и которая не требовала от него ничего, что противоречило бы его естественному образу мыслей. Наши предки тех дней интеллектуально и физически являли собой весьма жалкое зрелище, но в социальном плане они обладали завидным душевным равновесием.
Затем наступила эмансипация, быстрое приспособление к открывшемуся миру, страстные попытки натянуть на себя одежды, скроенные по чужим меркам. Это вело к утрате личности, а в перспективе — к исчезновению евреев как некой группы. Но этому не было суждено произойти. Ведь сколько бы евреи не приспосабливались в языке, обычаях, а очень часто даже и в религии, к европейским народам, среди которых обитали, чувство отчужденности между ними и коренными жителями никогда не исчезало. Это — крайнее проявление антисемитизма, от которого нельзя избавиться самой искренней пропагандой. Нации хотят добиваться своих собственных целей, а не сливаться.
Игнорировать или оспаривать эмоциональный предрассудок или открытую враждебность, заявлял Эйнштейн, абсолютно бесполезно; крещеный титулованный еврей, "тайный советник” был в его глазах попросту жалок. Злом он считал государственные границы, армии, но не национальное существование как таковое; сосуществование мирных наций при взаимном уважении и терпимости к различиям между ними представлялось ему цивилизованным и обоснованным. Приводимое далее определение сионизма мало чем отличается от реакции на сходные проблемы интернационалиста и социалиста М.Гесса82 в 1860-х годах. Позвольте процитировать слова Эйнштейна, сказанные в 1933 году: "Недостаточно, чтобы каждый сам по себе играл какую-то роль в культурном развитии человечества; мы должны также попытаться решить задачи, посильные лишь нациям как единому целому. Только так могут евреи возродить свою социальную жизнеспособность”. Следовательно, "Палестина является не только убежищем для евреев Восточной Европы, но и олицетворением вторичного пробуждения духа всей еврейской нации”.
Это заявление представляется мне классической формулировкой сионистского кредо, близкой по духу неполитическому духовному национализму Ахад-ха-Ама83: то, что отстаивал Эйнштейн, было по существу созданием социального и духовного центра. Но когда британское правительство вкупе с арабским сопротивлением сделали, по его мнению, создание государства неизбежным, он согласился с этой идеей, равно как и с использованием силы ради того, чтобы избежать уничтожения, вероятно, видя в этом неминуемое зло и тем не менее понимая, что это — бремя и обязанность, которые следует сносить с чувством собственного достоинства и тактом, без самонадеянности. Его, подобно всем порядочным сионистам, все более и более беспокоили отношения с арабами Палестины. Он стремился к государству, в котором могло бы осуществиться сотрудничество евреев и арабов в полном объеме. Но он осознавал, что на фоне происходивших событий это, увы, маловероятно. Он оставался последовательным сторонником еврейского государства Израиль; именно здесь должны быть реализованы еврейские идеалы и особенно - "знание ради знания, почти фанатичная любовь к справедливости, стремление к личной независимости”.
Необходимо заметить, что такой подход в корне отличался от позиции образованных евреев Германии его круга, не говоря уже о людях сходного происхождения, а также социального и интеллектуального уровня где бы то ни было в Западной Европе. Достаточно вспомнить ранние годы Эйнштейна, отчужденность от еврейских проблем, ни на секунду не покидавший его идеалистический интернационализм, ненависть ко всему, что разъединяет, чтобы, на мой взгляд, по достоинству оценить тот высокий уровень его проницательности, реалистичности и морального мужества, которым могут по праву гордиться его соплеменники. В конце концов, прочие видные германские ученые еврейского происхождения, чья безукоризненная честность пользовалась всеобщим уважением, — Фриц Хабер, Макс Борн84, Джеймс Франк85 — реагировали на происходящее весьма поразному. Это же можно сказать и о таких писателях и художниках как Шницлер86, Стефан Цвейг87, Малер88, Карл Краус89 или Верфель90, которые также были отлично знакомы с антисемитизмом в Вене.
Я не хочу намекать на то, что Эйнштейн обязательно порицал культурную ассимиляцию как во всех случаях постыдную или обреченную на провал. Вполне возможно, что дети еврейских родителей обнаруживали себя настолько далекими от общины и ее традиций, что даже осознавая ситуацию, уже психологически не могли восстановить с ней искренние связи. Ему было ясно, что в цивилизованном обществе у каждого человека должна быть возможность следовать своим путем так, как это представляется лучшим ему самому, и при этом понимать, что его выбор отнюдь не обязательно понравится другим. Он не обвинял этих ученых, писателей, художников в бесчестьи или малодушии; их моральные качества не вызывали у него никаких сомнений, речь шла только о степени их национального самосознания.
Именно неспособностью к самообману или уверткам, умением смотреть правде в глаза и, если требовалось, способностью идти наперекор господствующим идеям отмечен дерзновенный отказ Эйнштейна от основополагающих элементов системы Ньютона. Эта же независимость характерна для его поведения и в иных областях. Он отвергал традиционную житейскую мудрость. "Здравый смысл, — говорил он, — это набор предрассудков, заложенных в мозгу в пору отрочества”. Если его что-либо не устраивало по моральным и политическим причинам (то же относилось и к математике), он не игнорировал проблему, не избегал ее и не выбрасывал из памяти, не подгонял, не прилаживал, не добавлял заплатку-другую в надежде, что ”на его век хватит”; он не ждал прихода Мессии, мировой революции, наступления всеобщего царства разума и справедливости, чтобы разрешить проблему. Если башмак жмет, с какой стати говорить, что время и носка сделают его более удобным, или что форма ноги изменится, или что вам только кажется, что он жмет, — одним словом, что реальность гармонична, а потому конфликты, несправедливости, варварство принадлежат к тому порядку вещей, который освящен свыше. Если его наставники в философии Юм и Мах были правы, утверждая, что существует только один мир, мир человеческого опыта, что только этот мир реален, то по другую сторону от него лежит, по всей видимости, тайна. Естественно, он отстаивал ту идею, в которую безоговорочно верил: что вселенная постижима как величайшая из тайн; до сих пор не было обоснованной теории, которая бы обошла вниманием что-либо из непосредственного человеческого опыта, в него он включал и интуитивное воображение, чьи пути зачастую далеки от ощущений.
Именно это чувство реальности оберегало его от превращения в доктринера. Когда его точно выверенное знание входило в противоречие с господствующей точкой зрения, он не игнорировал то, что подсказывала его моральная убежденность, общественная или политическая позиция. Он был убежденным пацифистом; во время Первой мировой войны он сделался непопулярным в Германии, осудив эту воюющую державу. Но в 1933 году он признал необходимым сопротивляться Гитлеру и нацистам, даже и с применением силы, что повергло в ужас его союзников из пацифистского лагеря. Он был поборником всеобщего равенства и демократом со склонностью к социализму. Тем не менее он настолько остро чувствовал необходимость защиты личности от государства, что верил: ”Билль о правах”91 был бы попран, если стоящая у власти некая просвещенная и искушенная элита не сумела бы время от времени давать ощутимый отпор притязаниям толпы. Он превозносил американскую конституцию, в частности гармоничное распределение власти между президентом, конгрессом и общественным мнением (один из его ранних политических наставников австрийский социалист Фридрих Адлер92 вряд ли одобрил бы это). Он ненавидел препоны, воздвигнутые между людьми, и кичливую обособленность. Но когда еврейских студентов стали преследовать националистически настроенные однокашники в германских или польских университетах, он заявил, что Вейцман был прав, что либеральные и социалистические резолюции оказались бесполезными и что евреям следует действовать и создать свой собственный университет в Иерусалиме.
Всю свою жизнь он ненавидел национализм. Однако он признавал, что евреям остро необходима какая-либо форма национального существования; кроме того, он не считал, что чувство национальной принадлежности и национализм — равноценные понятия. Несомненно, что он серьезно относился к политической лояльности. Дважды он отказывался от своего германского гражданства. Он не мог в молодости принять швейцарское гражданство или во времена Гитлера — американское, поскольку не чувствовал, что будет абсолютно лоялен по отношению к этим демократическим государствам, так же как по вполне очевидным причинам счел невозможным сохранять германский паспорт. Это была та самая комбинация социальной чувствительности и конкретного постижения сути человеческого бытия, которая уберегла его от доктринерского фанатизма; именно это сделало его морально убедительным.
Он был простодушным человеком и иногда, я полагаю, попадался на уловки любителей глупых шуток и проходимцев. Однако у простодушия есть свои формы восприятия: подчас оно смотрит на мир собственными глазами, а не сквозь ”очки” традиционного здравого смысла или абсолютной догмы. Та самая независимость, что побудила его отвергнуть устоявшиеся понятия физического пространства-времени и вопреки сопротивлению физиков и философов смело выдвинуть гипотезу о гравитационных волнах и световых квантах, сделала его свободным морально и политически.
Этот человек, стремившийся к уединению, абсолютно равнодушный к лести, не имевший себе равных в известности на всех пяти континентах, веровал в спасительность труда (и какого! — разгадывать секреты природы, чудесным образом подвластные анализу человеческого разума). В итоге этот мягкий, тихий, скромный человек пришелся не по вкусу многим влиятельным группам: германским националистам и страдавшим германофобией французам, тотальным пацифистам и поборникам еврейской ассимиляции, ортодоксальным раввинам и советским марксистам, не говоря уже о защитниках непреходящих моральных ценностей, в которые он на самом деле твердо верил.
Он не был ни субъективным идеалистом, отрицающим существование материального мира, ни скептиком. Он считал, что научные концепции и теории являются свободными построениями человеческого воображения, а не результатами экспериментально полученных данных, как полагали Бэкон93, Милль94 или Мах; однако то, что ученый стремится проанализировать или описать при помощи этих теорий и концепций, само по себе является объективной структурой, часть которой, если подходить с научной точки зрения, составляют сами люди. Моральные и эстетические ценности, положения, стандарты, принципы не могут быть выведены из наук, имеющих дело с понятиями типа ”что это?”, а не ”что бы это могло быть?”. Но по Эйнштейну, их нельзя также вывести и из классовых, культурных или расовых различий или обусловить этими различиями. Эти понятия универсальны не в меньшей степени, чем законы природы, из которых их нельзя извлечь. Они справедливы для всех людей во все времена, открыты при помощи моральной или эстетической проницательности, свойственной человечеству, и воплощены в основных принципах (но не в мифологии) великих мировых религий.
Подобно Спинозе, он считал, что отрицающие это попросту ослеплены страстями; несомненно, он ощущал в Спинозе родственную душу. Как и Спиноза, он считал Бога воплощенным в природе разумом, в буквальном смысле высшим существом, изумительной гармонией, "Deus sive Natura”95. Как и Спиноза, он не выказывал своим хулителям горечи и не пошел с ними на компромисс он остался невозмутимым и разумным, человечным, терпимым, свободомыслящим. Он не стремился главенствовать над окружающими и не требовал от своих последователей слепой преданности. Он поддерживал любое движение — скажем, Лигу Наций или левые группы в Соединенных Штатах, — если полагал, что в итоге это принесет какую-то пользу или, как минимум, от этого будет больше пользы, нежели вреда.
Так же обстояло дело и с еврейской Палестиной. Он ненавидел шовинизм; он критически, порой сверх всякой меры вникал в отношение сионистского руководства к арабам, но это не заставляло его впадать время от времени в иную крайность, как это случалось с другими; он осудил администрацию президента Эйзенхауэра за стремление подыграть арабским государствам за счет Израиля — эту политику он приписывал американскому империализму. Он осуждал некоторые действия руководства Еврейского университета. К примеру, он полагал, что из массы ученых-беженцев, покинувших нацистскую Европу, назначения на штатные должности должны получать молодые, а не маститые специалисты. Но тому, во что он верил, он не изменял. Он не был готов отречься от сионистского движения из-за недостатков, присущих части его лидеров. Его сионизм базировался на убеждении, что люди обладают неотъемлемым правом избавиться от голода, нищеты, беззащитности, несправедливости, да и от бездомности.
В некотором смысле он и сам был бездомным. В письме своему другу Борну он писал, что у него не было корней, повсюду он был чужеземцем. По его собственному признанию, он был одиноким и инстинктивно сторонился близости с кем бы то ни было. Он был мыслителем-отшельником, которого мало кто мог узнать как человека. Глубокий гуманизм и добросердечное отношение к жертвам политических преследований, социальной дискриминации, экономической эксплуатации были основой его мировоззрения и не нуждаются в специальном объяснении; быть может, в какой-то мере они компенсировали его собственные трудности в налаживании личных отношений.
Подобно многим физикам, так или иначе причастным к созданию атомной бомбы, он на склоне лет ощутил бремя ответственности ученых за разработку новых чудовищных средств разрушения — и осудил приютившую его страну за применение этих средств; ему казалось, что эта страна взяла опасный империалистический курс. Его ненависть к жестокости и варварству реакционеров и фашистов временами рождала иллюзию об отсутствии врагов слева — заблуждение многих порядочных и благородных людей, стоившее жизни кое-кому из них.
Вероятно, его исключительный талант ученого приводил к схематизации, сверхупрощению практических проблем (в том числе сложных политических и культурных вопросов, не имеющих четких решений), к чрезмерным обобщениям; при этом оставались без внимания изъяны и перепады повседневной жизни, недоступные точному количественному анализу. Ибо, на мой взгляд, все же есть некое различие в таланте естествоиспытателей и гуманитариев. Часто отмечалось, что выдающиеся открытия и изобретения требуют большой силы воображения и некоторой, не поддающейся рациональному анализу интуиции для отыскания верного решения и что это схоже с образным видением художника или гениальным осмыслением прошлого у историков или филологов. Вполне вероятно, что это так. Тем не менее, имея дело с людьми и их проблемами, нужно принимать в расчет природу человеческого опыта и ощущать пределы человеческих возможностей; без такого осознания поставленных природой пределов нет критерия отбора в бесчисленном множестве логически возможных, но по сути невероятных или абсурдных гипотез — исторических и психологических.
Очень возможно, Аристотель96 и Кант, Вольтер и Юм правы в своих рассуждениях о том, что делает людей разумными, что может, а что никак не может быть аргументом в человеческих делах, в естественной связи идей, в таких основных понятиях как "прошлое”, "будущее”, "вещи”, "люди”, "причина и следствие”, "логические связи” — то есть в той тесно сплетенной сети категорий и понятий, от которой на деле зависит человеческое мышление, а возможно, и безумие. Отход от этого, как свидетельствует, к примеру, творчество сюрреалистов — художников, поэтов, композиторов — может быть интересным, но намеренно антирациональным.
Однако в математике или теоретической физике такое чувство реальности кажется необходимым. В самом деле, временами может понадобиться нечто почти противоположное. Если речь идет об основополагающих открытиях (скажем, о комплексных числах, неэвклидовой геометрии или квантовой теории), разъединяются традиционно связанные представления, происходит отход от части категорий — обязательной принадлежности нормального человеческого опыта. Так появляется некий дар представить себе принципиально не вообразимое и к тому же не выразимое на обыденном языке, имеющем дело с повседневными фактами и нуждами человеческой жизни. Это то самое остранение, если хотите, ”отплытие” от повседневной реальности, которое рождает расхожий образ абстрактного мыслителя — Фалеса97, падающего в источник, или рассеянного профессора, который варит собственные часы вместо яйца.
Такое бегство в мир абстракций — идеальный мир чистых форм, выраженных особо символично, без отклонений от нормы, без хаоса, даже без основополагающих явлений повседневного опыта — временами может быть связано с психическим расстройством, своего рода встряской в раннюю пору жизни. Срыв, пережитый Эйнштейном в бытность мюнхенским школьником, сродни пережитому в детстве Ньютоном и Дарвином, также сохранившим некоторую эмоциональную замкнутость. И эти мыслители тоже засвидетельствовали некое пережитое ими ощущение, охарактеризованное Эйнштейном как глубокое религиозное волнение при явлении Бога, открывшего себя во всеобъемлющем единстве и разумной гармонии природы, выстроенной по цельному замыслу. Это было видение реальности, не подвергаемой никаким потрясениям. В результате Эйнштейн оставался последовательным детерминистом и никогда не соглашался с тем, что принцип неопределенности есть высшая категория естествознания или атрибут объективной природы, а считал его исключительно частью нашего предварительного и неполного познания окружающего мира.
Подобная склонность к чистой абстракции и обобщениям временами может происходить от неспособности к тесным отношениям с другими людьми, к полнокровной социальной жизни. Такое предположение представляется мне вполне допустимым. Быть может, именно это и произошло с Альбертом Эйнштейном. То, что не находило выхода в частной жизни, он отдал миру. Не только за его достижениями укрепилась всемирная слава — но его облик, его лицо. стали знакомы миллионам мужчин и женщин. Его внешность превратилась в символ, в стереотип того, что люди называют "гениальным ученым”. Точно так же некий идеализированный Бетховен превратился в коммерческий образ вдохновенного художника. Кто знает, как выглядели другие ученые, осененные крылами гения, — Планк, Бор, Резерфорд?98 Или, коль на то пошло, Ньютон, Галилей или Дарвин? Облик Эйнштейна отличался ясностью, добросердечием, погруженностью в собственные мысли, меланхолическим выражением. Повсюду это трогало людские сердца. Он был очень знаменит, воистину — национальный герой, и его внешность была столь же узнаваема и любима, сколь и облик Чарли Чаплина — задолго до того, как портреты Эйнштейна украсили американские почтовые марки и израильские банкноты.
Позвольте мне в заключение вкратце вернуться к вопросу об Израиле. Сионистское движение, как и Израиль, постоянно — а сегодня более, чем когда бы то ни было — подвергалось нападкам как извне, так и изнутри, иногда обоснованно и справедливо, но большей частью — нет. Эйнштейн, непримиримый к малейшим отступлениям от норм человеческой порядочности и прежде всего — со стороны своего собственного народа, верил в это движение и это государство и твердо стоял на их стороне до конца своих дней, как бы критически он ни относился в те или иные моменты к его деятелям или политическим акциям. По-видимому, это является одним из наиболее высоких моральных свидетельств, которым может гордиться любое государство или движение нашего века. Постоянная общественная поддержка, оказываемая крайне добрым (и вполне информированным) человеком в обстановке почти полного отсутствия симпатий к его действиям в той части его социальной и интеллектуальной среды, чьи общеэтические и политические воззрения он в целом разделял, не может быть сама по себе достаточна для оправдания какой-либо доктрины или политики, однако и не может быть отброшена. Это чего-то да стбит, в данном случае — очень многого.
Исайя Берлин